Филолог и педагог Станислав Иванов: «Нужно, чтобы в каждом классе стояло хотя бы десять словарей»

Совсем скоро выпускники будут сдавать ЕГЭ по русскому языку. Показывают ли результаты этого экзамена уровень знания предмета? Каких умений не хватает филологам-первокурсникам? Можно ли в школе научить не только грамотно писать, но и убедительно говорить? Об этом мы поговорили с экспертом Грамоты, кандидатом филологических наук, доцентом МПГУ Станиславом Викторовичем Ивановым.
Грамота: К вам приходят учиться люди, которые собираются заниматься филологией. Их владение русским языком вызывает у вас какие-то вопросы? Можно ли сказать, что их результаты ЕГЭ соответствуют реальным знаниям?
Станислав Иванов: Мое направление — это словообразование, морфология и нормы современного русского литературного языка. Обычно с первокурсниками я не работаю, но в нынешнем году читал им «Нормы русского литературного языка», и это было для меня откровением. Многие приходят просто потому, что у них есть необходимое количество баллов, чтобы поступить на филологический факультет. У нас педагогический университет, но студентов, у которых есть мотивация получать специальность педагога, единицы.
Вообще, дело не в количестве баллов. Сейчас все регионы гордятся своими высокими баллами; Москва рапортует, что увеличилось количество стобалльников. А что дальше? Да, они поняли логику теста, их натаскали, они выучили модель ответа на вопросы.
Но когда эти дети приходят к нам, мы, преподаватели вуза, вынуждены заново объяснять им школьную программу, восполнять пробелы.
Соответствует ли полученное количество баллов уровню их знаний? По моему мнению, у 95% выпускников не соответствует.
Вы считаете, что уровень снизился из-за ЕГЭ?
С. И.: Я являюсь категорическим противником ЕГЭ. Этот экзамен, с моей точки зрения, разрушил систему лингвистического образования школьников. Я не знаю, что происходит с литературой, с математическими, физическими дисциплинами, естественно-научным циклом. Но то, что ЕГЭ погубил будущих лингвистов, — это абсолютно точно.
Почему я противник ЕГЭ? Мы потеряли системность.
У меня педагогический стаж 31 год в нашем университете, и раньше я никогда не сталкивался с тем, что у студентов отсутствует представление о морфологической системе русского языка. А теперь задаешь вопрос третьему курсу: «Объясните, почему это прилагательное качественное?» И все молчат. Потому что такого задания в ЕГЭ нет, их никто на это не тренировал. «Когда солнце встало — какое окончание у глагола?» Ответ — «-ло». Почему? Потому что нет такого задания в ЕГЭ.
То есть баллы ЕГЭ отражают именно степень их натасканности на ЕГЭ, а никак не знание системы русского языка?
С. И.: Совершенно верно. И это трагедия. ЕГЭ — большое зло именно для лингвистики. Нам нужны не стобалльники, а системность, представление о том, что, к примеру, есть глагол, от глагола образовалось существительное (петь → пение), в результате изменились синтаксические связи слова… Но таких представлений у студентов часто нет.
Если говорить о ваших студентах не как о филологах, а как о молодых людях, говорящих и пишущих по-русски, то какие вы у них видите лакуны? Что обычно вызывает затруднения?
С. И.: Самая большая проблема — это орфоэпические и морфологические нормы, а также элементарное незнание значений слов. Такое впечатление, что первокурсники живут в параллельном мире и никогда не слышали каких-то слов. Есть сложности типа дно — донья, кочерга — кочерёг, но они не связаны с повседневным использованием слов в речи. А вот неверные ударения я слышу от студентов постоянно. Когда их поправляешь, они изумляются: «Ой, я никогда не слышала, что так произносят! Даже не знала, что такое может быть!»
 Мария Каленчук: «Нормативные рекомендации должны опираться на речевую практику образованных людей»Что волнует русистов сегодня? Опрос ГрамотыТо же самое с фразеологией. Я у студентов в спонтанной речи фразеологизмов не слышал, значений они их не знают, потому что таких заданий в ЕГЭ нет. Зачем учитель будет тратить время на разбор чего-то, если это потом не потребуется на ЕГЭ?
Мария Каленчук: «Нормативные рекомендации должны опираться на речевую практику образованных людей»Что волнует русистов сегодня? Опрос ГрамотыТо же самое с фразеологией. Я у студентов в спонтанной речи фразеологизмов не слышал, значений они их не знают, потому что таких заданий в ЕГЭ нет. Зачем учитель будет тратить время на разбор чего-то, если это потом не потребуется на ЕГЭ?
И все-таки, когда начинаешь ставить конкретные задачи, указывать, где посмотреть, как проанализировать информацию, некоторые лакуны в знаниях, которые появились по разным причинам, понемногу заполняются, и даже наблюдаешь какой-то интерес. Например, мы обсуждали слово телевидение: какое это существительное? Есть ли у него множественное число? Студенты были уверены, что есть, ссылались на авторитеты, на источник. Никогда не думал, что не самое сложное слово может вызвать такой живой отклик.
Курс русского языка в школе не дает представления о том, что лингвистика — это наука; это просто свод правил, которые надо механически запомнить. Идея, что язык можно изучать как объект, что в нем есть закономерные изменения, совершенно отсутствует. Физика — наука, химия — наука. А что такое лингвистика? Это про то, что надо грамотно писать.
С. И.: Да, школьная программа в первую очередь ориентирована на правописание. Если посмотреть на единую федеральную рабочую программу, которой все сейчас должны следовать, там все унифицировано по годам обучения, по набору навыков и по перечню тех единиц, с которыми должен быть ознакомлен ученик.
Ну как единый учебник может удовлетворить потребности и ребенка с гуманитарным мышлением, и ребенка с математическим, и с естественно-научным? Совершенно непонятно.
Как вам кажется, молодые люди вообще представляют себе, как, например, пользоваться словарями? Или это такая архаика, которая осталась в прошлом, и непонятные слова все просто гуглят?
С. И.: Это моя боль. В проекте «Словари XXI века» у меня вышли словарь грамматических трудностей для 5–11-х классов (с Инной Михайловной Гольберг) и толковый словарь для учеников начальной школы. Я очень много ездил по стране и продолжаю ездить, везде говорю об этих словарях. Проблема только одна: их нет в школе, школа не может их купить. Если директор школы своим приказом разрешит библиотекарю заказать хоть сколько-нибудь словарей, они будут в библиотеке, но только если на это будет добрая воля директора. При этом надо понимать, что словари, которые стоят в библиотеке, — это не рабочие словари.
Словари должны быть в классе, чтобы учитель мог сказать: «Сережа, ты знаешь значение этого слова? Не знаешь? Пойди, возьми словарь и найди его».
Для этого нужно, чтобы в каждом классе стояло хотя бы по десять словарей, по одному на парту. Но это абсолютная фантастика для современной российской школы. Поэтому студенты, которые поступили на филологический факультет, не понимают, как определить формы слова в словарной статье.
 Пять видов словарей на каждый деньЧем грамотнее человек, тем чаще он проверяет себя, и на разные случаи есть разные словариВернемся к существительным в единственном и множественном числе. Недавно мы анализировали со студентами слово культура в тексте Дмитрия Сергеевича Лихачева. Понятно, что оно употреблено в значении отвлеченного существительного. Что видят студенты в словаре? Они видят культура, -ы, и они это -ы воспринимают не как форму родительного падежа, а как множественное число.
Пять видов словарей на каждый деньЧем грамотнее человек, тем чаще он проверяет себя, и на разные случаи есть разные словариВернемся к существительным в единственном и множественном числе. Недавно мы анализировали со студентами слово культура в тексте Дмитрия Сергеевича Лихачева. Понятно, что оно употреблено в значении отвлеченного существительного. Что видят студенты в словаре? Они видят культура, -ы, и они это -ы воспринимают не как форму родительного падежа, а как множественное число.
Я стал смотреть разные словари: лишь словарь под редакцией Дмитрия Ушакова дает абсолютно информативную справку: «только ед.». Наверное, разработчикам словарей стоит задуматься о том, чтобы информация была понятной и исчерпывающей. Я проверил слово культура и по МАСу1, и по словарю Кузнецова2, который дан на Грамоте: культура, и дальше -ы. Казалось бы, это информативно, но выясняется, что нет.
Значит, для тех, кто бумажные словари в руках не держал, способы подачи информации в словаре непрозрачны.
С. И.: Вот здесь я с вами не соглашусь. Их этому не научили, поэтому они не понимают информацию, которая дана в словарной статье. В свое время они проигнорировали ту часть словаря, которая называется «От автора» или «Как пользоваться словарем». А это, по большому счету, первый этап работы со словарной информацией.
В начальной школе словари должны быть только бумажными.
Начиная со средней школы, желательно класса с шестого, уже можно давать информацию только через электронную версию. Словарь — это все-таки гипертекст, он должен читаться нелинейно. А как он может читаться нелинейно в электронной версии?
Какие еще есть способы научить детей работать с информацией?
С. И.: Я встречаюсь с учителями в разных регионах, спрашиваю их: «Вы знаете такой портал — Грамота.ру?» Пять человек из ста знают. Из студентов не знает никто. Или ресурс «Академос» — это же кладезь информации о правописании, в том числе новых слов, которые кодификаторы уже включили в орфографический словарь! Но об этом вообще никто не знает. И что с этим делать? Ученые работают, разрабатывают материалы, а до «потребителей» эта информация не доходит.
Кстати, у меня студенты очень вдохновились, когда Ольга Евгеньевна Иванова3 объяснила нам, членам Орфографической комиссии, что в строку поиска на «Академосе» можно ввести не только слово, которое тебя интересует, но и цифрами год, и узнать все новые слова, которые вошли в словарь в конкретном году. Когда я передал эту информацию своим студентам, она вызвала у них восторг. Это то, чем их можно заинтересовать.
Что вы думаете про устную и письменную речь? В мое время в школе учили, конечно, только письменному языку. Что-нибудь изменилось в этом смысле?
С. И.: У меня есть четкое представление о развитии устной речи, которое, к счастью, не расходится с общепринятым. На уроках в школе устная речь не может быть сформирована никогда и ни при каком условии.
Когда мы пытаемся проанализировать устную речь ученика любого класса или выпускника, мы не можем предъявить претензии школе.
Если мы говорим о школьных предметах, то за развитие устной речи должна отвечать риторика, а ее нет.
Тогда где и как формируется устная речь? Стихийно, на других уроках, в семье?
С. И.: Да, конечно, она в первую очередь формируется в семье, во вторую очередь — на всех предметах школьного курса, каждый по-своему вносит в нее вклад. Приведу по памяти цитату из Даниила Борисовича Эльконина: «Устная речь на уроках в школе представлена в жанре учебного диалога»4. Даже если на уроке возникает дискуссия, которая вызвана некоторой проблемой, эта дискуссия не связана с речью как реализацией языка в конкретной ситуации общения. Таких ситуаций множество: приветствие, прощание, поздравление, извинение, приглашение… Но никакой предмет школьной программы таких ситуаций никогда не создает. Для развития речи фактически нужен драматический кружок.
Почему все так восхищались речью аристократии? Потому что устная речь развивается по образцу.
Ребенок слышит хорошую речь родителей, они с ним общаются, он слышит правильные формы, он отвечает на вопросы, он сам задает вопросы и не боится их задать. Придя в школу, он может писать с ошибками, но речь у него будет прекрасная. И он всю жизнь проживет с этой прекрасной речью.
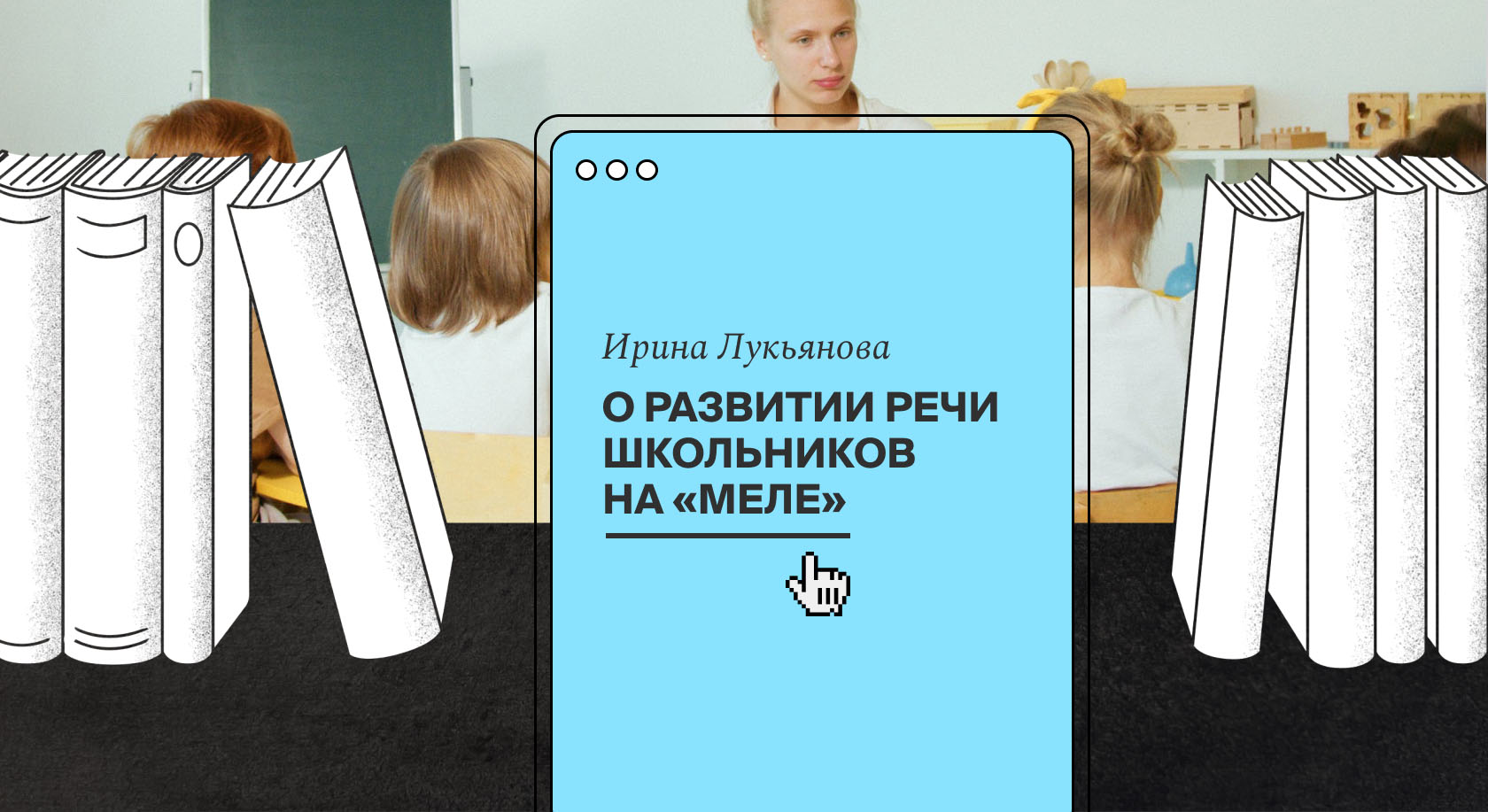 Ирина Лукьянова: «Дать детям понимание, что язык — это инструмент»Какие речевые практики нужны коммуникативно грамотным взрослым?В чем еще проблема? Под устной речью и успехами ее развития понимают соблюдение норм русского литературного языка. Если выпускник правильно расставляет ударения в предложенных словах, то он вроде бы соблюдает нормы устной речи. Да ничего подобного! Он же должен создать устный текст, а там свои законы. Если есть в России какие-то отдельные гениальные учителя, которые этим занимаются, честь им и хвала. Но повсеместно этого нет. Поэтому нет умения рассуждать, строить аргументацию, использовать изобразительные средства в речи. Конечно, это должно быть, но не в связи с русским языком как предметом.
Ирина Лукьянова: «Дать детям понимание, что язык — это инструмент»Какие речевые практики нужны коммуникативно грамотным взрослым?В чем еще проблема? Под устной речью и успехами ее развития понимают соблюдение норм русского литературного языка. Если выпускник правильно расставляет ударения в предложенных словах, то он вроде бы соблюдает нормы устной речи. Да ничего подобного! Он же должен создать устный текст, а там свои законы. Если есть в России какие-то отдельные гениальные учителя, которые этим занимаются, честь им и хвала. Но повсеместно этого нет. Поэтому нет умения рассуждать, строить аргументацию, использовать изобразительные средства в речи. Конечно, это должно быть, но не в связи с русским языком как предметом.
Есть что-то, в чем современные молодые люди превосходят представителей более старших поколений? Или, как многие думают, раньше и говорили лучше, и писали грамотнее?
С. И.: Я говорил о системе обучения, о системе оценивания — тут есть проблемы. А во владении языком никакой деградации нет, в этом отношении всё в полном порядке. Более того, я узнаю от своих студентов что-то новое. У меня была группа студентов бакалавриата, которые собираются стать прикладными филологами: корректорами, редакторами, пиарщиками. Я вел у них курс «Активные процессы в современном русском языке». Им это было небезынтересно, но мне совершенно не хотелось загружать их написанием курсовых, в которых в основном пишут то, что давно известно. Вместо этого я предложил им провести исследование:
Проанализируйте речь своих ровесников и тех, кто помоложе. Поищите те слова, которые они используют в речи, но которых вы не знаете.
Такой практической работой они занимались с удовольствием. Я получил огромный массив интересного материала. Например, они собрали такие слова, как абилка (в играх: способность, полученная при прохождении уровней, либо данная по умолчанию), агрить (от агрессия, раздражать), адвенчура, аддон (дополнительный модуль в компьютерной программе). Я этих слов не знал.
Наверное, главное в изучении и преподавании русского языка — это формирование познавательного интереса. Человек может писать безошибочно, на сто баллов, и ненавидеть русский язык. Или он может писать с ошибками, чего-то не знать, но он хочет разобраться, узнать больше. Значит, мы его заинтересовали.
Еще на
эту тему
В 2024 году в России появится первый «Большой словарь ударений»
Нормы постановки ударения указываются во многих словарях, но единого — академического и фундаментального — до сих пор не было
Что лингвистическая теория может дать школьному образованию?
Доклад лингвиста Сергея Татевосова на Международном педагогическом конгрессе в МГУ им. М. В. Ломоносова
Римма Раппопорт: «Как найти баланс между доступностью школьной программы и научной картиной мира?»
Что волнует русистов сегодня? Опрос Грамоты

























