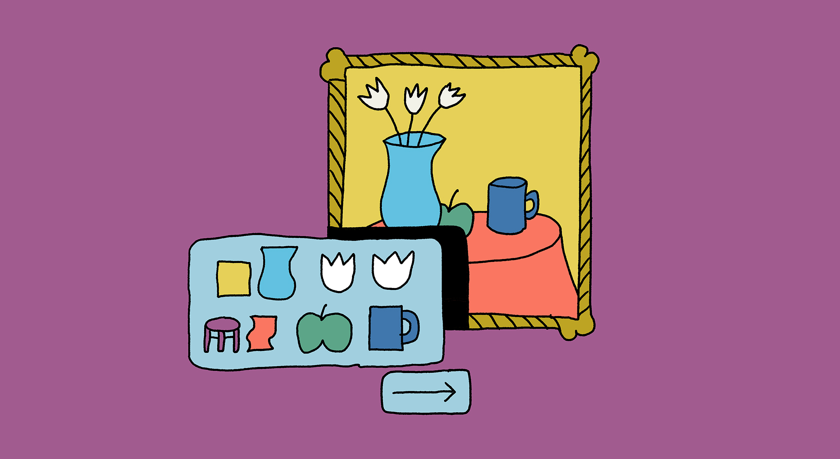Ольга Антонова: «Непринужденное общение перестало считаться фамильярным»

Одно из главных изменений в произносительной системе русского языка за последние 25 лет — это отказ от высокого стиля. Лев Владимирович Щерба называл такой стиль полным — мы отчетливо произносим все слова, делаем в речи значительные паузы, используем высокую лексику. На смену ему идет нейтральный произносительный стиль с элементами разговорного.
Грамота уже 25 лет наблюдает за жизнью русского языка. По случаю юбилея мы расспросили известных российских лингвистов, как, на их взгляд, чувствует себя наш язык, какие обстоятельства на него влияют и какие изменения ждут его в будущем.
Высокий произносительный стиль — это, например, объявление протокольных мероприятий на Красной площади или комментирование парада, речь в официальной обстановке и даже академический доклад. Раньше считалось, что высокий произносительный стиль настраивает нас на более серьезное восприятие содержания и соответствует серьезным темам.
Сейчас, по моим наблюдениям, уже не встретишь лектора, который бы читал лекцию студентам, делая театральные паузы и используя сверхполный тип произношения, когда в речи совершенно нет никаких компрессивов вроде щас, тыща; пожалуй, мы даже забыли, что это такое. Этот стиль можно видеть только в старых театральных постановках, в записях съездов КПСС или дикторов советского радио, когда после каждого слова делается пауза. Никто ни за что не скажет грит, а скажет торжественно: Говорит Москва!
Как представляется, более демократичная, нейтральная речевая позиция привлекательнее для говорящего и слушающего; такое произношение находит более короткий путь к сердцам. Люди не хотят подчеркнутой, избыточной серьезности.
Можно сказать, что высокий произносительный стиль сейчас практически утрачен, во всяком случае в спонтанной живой речи.
Что происходит вместо этого? Речь приближена к нейтральной, и в этот нейтральный произносительный стиль встраиваются элементы, которые раньше считались признаком разговорной речи. Мы говорим в быстром темпе, используем компрессивы и множество слов, которые стилистически могут быть расценены как разговорные. Содержательная нагрузка разговорных элементов изменилась. Такой стиль создает ощущение непринужденного общения и уже не воспринимается как фамильярность. Содружество нейтрального и разговорного стиля, вероятно, будет развиваться.
Другое изменение — усложнение системы согласных. В начале XX века в системе старомосковского произношения было правило, которое звучало так: согласный перед следующим мягким произносится мягко. Дмитрий Николаевич Ушаков в свое время записал целую лекцию про старомосковское произношение, где он в том числе приводил примеры: кормить, девки, дверь, первые, твердь, смех, смерть, женщина, фонарщик. И если послушать эти примеры, то одни звучат для нас неестественно, а другие — нормально.
Я часто спрашиваю своих студентов, как лучше, [сн']ег или [с’н']ег? Обычно аудитория говорит, что с твердым [с] лучше. Хотя еще двадцать лет назад, когда я задавала студентам тот же самый вопрос, находились люди, которые говорили, что [с’н']ег тоже нормально. Если я спрашиваю про слово смех (с другим сочетанием согласных), то никто не хочет, чтобы я говорила [с’м']ех. А же[н’]щина как же? А же[н’]щина хорошо, и фона[р’]щик тоже хорошо! Вот ко[р’]мить никто не хочет слышать.
Это означает, что число позиций, в которых мягкий согласный провоцировал появление перед ним такого же мягкого, сокращается.
Михаил Викторович Панов говорил, что самая главная произносительная тенденция в русском языке XX века — это расшатывание позиционного смягчения согласных. Осталась последняя позиция, «зубные согласные перед мягкими зубными», где еще сохраняется позиционная мягкость под влиянием следующего мягкого звука. Но я уже слышу, что некоторые люди отступают от этого произношения, обычно в сверхчастотных словах ([зд']елать вместо [з'д']елать). С точки зрения комбинаторики это можно считать усложнением системы согласных, потому что произнести мягкий перед мягким артикуляционно проще, чем твердый перед мягким.
Всё большее влияние на звучащую речь оказывают средства массовой коммуникации. Раньше для того, чтобы говорить в эфире, нужно было получить профессию диктора, специально учиться правильному произношению. Сейчас в эфире выступают и журналисты, и блогеры. При этом людям свойственно приближать то, что им нравится, и отталкивать то, что им не нравится.
Речь тех журналистов, которые нам приятны и интересны, чья манера нам нравится, начинает осознаваться в качестве образца.
Ситуация изменилась кардинально, и она будет меняться и дальше. Язык звучащих средств массовой коммуникации становится основанием для смены нормы. Раньше такое было невозможно. Неважно, что все люди так говорят; лингвист Евгения Истрина считала, что «ошибка, даже распространенная, не перестает быть ошибкой». Сегодня мы проводим статистические исследования речи людей, говорящих на русском литературном языке, и можем использовать количественные показатели для изменения словарных рекомендаций. Статистические данные, наряду с традиционными представлениями, в современной орфоэпии становятся полноправным основанием для принятия кодификационного решения.
Еще на
эту тему
Владимир Плунгян: «В русском языке произойдет радикальное обновление словаря»
Как меняется русский язык? Лингвисты по просьбе Грамоты рассказывают о главных трендах
Вышла книга фонетиста Ольги Антоновой об истории и характерных чертах старомосковского произношения
Некоторые рефлексы старомосковского произношения сохраняются и в современной речи
Мария Каленчук: «Нормативные рекомендации должны опираться на речевую практику образованных людей»
Что волнует русистов сегодня? Опрос Грамоты