Михаил Штудинер не спешит изгонять из языка то, что в нем еще живо

Что такое языковая норма? Почему нам важно говорить правильно? Как понять, когда следует твердо стоять на страже старой нормы, а когда уже можно «допустить» новый вариант произношения слова? На эти и другие вопросы Грамоты ответил кандидат филологических наук, доцент кафедры стилистики русского языка факультета журналистики МГУ и лауреат Ломоносовской премии за педагогическую деятельность Михаил Штудинер.
Как у вас возникла идея создать «Словарь трудностей русского языка»?
Михаил Штудинер: На кафедру стилистики русского языка, где я работаю уже 48 лет, часто звонят журналисты. Иногда звонят буквально за 5–10 минут до эфира, и нужно быстро ответить на возникшие у них вопросы. Очень давно студент-журналист спросил перед эфиром, как правильно поставить ударение — плы́ло или плыло́? И я очень быстро ответил: плы́ло. У меня есть свой собственный способ проверки ударения в формах глаголов прошедшего времени в среднем роде: в подавляющем большинстве случаев оно совпадает с ударением в форме множественного числа (плы́ло — плы́ли).
Нам часто задают вопросы подобного рода. Однажды нам позвонил заместитель министра культуры тогда еще СССР. Он спросил: есть журнал «Советская эстрада и цирк», и все говорят, что название составлено неграмотно, так ли это?
Не получается ли, что при такой формулировке только эстрада советская, а цирк нет?
Не надо ли поменять в названии советская на советские? Я успокоил замминистра, сказав, что цирк, конечно, тоже советский, и привел похожий пример из Тургенева: Дикий гусь и утка прилетели первыми. Эти и другие подобные вопросы вдохновили меня на создание собственного словаря.
Но ведь тогда, 10 лет назад, не было недостатка в орфоэпических словарях. Какую задачу вы перед собой ставили?
М. Ш.: Еще когда я был научным редактором «Словаря ударений для работников радио и телевидения» Флоренции Леонидовны Агеенко и Майи Владимировны Зарвы, у меня возникло желание создать краткий словарь и включить туда ту лексику, в которой носители русского языка часто делают ошибки. Это должен был быть небольшой по формату словарь, который можно взять с собой в командировку, который всегда под рукой. Полное название моего словаря — «Словарь трудностей русского языка для работников СМИ. Ударение, произношение, грамматические формы».
Он адресован прежде всего людям речевых профессий — тележурналистам, учителям, актерам, юристам, людям, которые выступают публично.
Как следует из названия, в словаре есть и грамматическая информация. Например, журналисту нужно срочно узнать, как правильно — игрок «Манчестер Юнайтед» или игрок «Манчестера Юнайтед» (согласно литературной норме, оба компонента названия не склоняются).
Чем новое издание отличается от предыдущих?
Оно должно быть лучше, чем первые два, которые вышли в 2016 и 2017 году соответственно. У редакторов накопилось около 70 вопросов ко мне по словарным статьям, и я постарался объяснить, почему я считаю так, а не иначе. Кроме того, были исправлены допущенные по недосмотру ошибки.
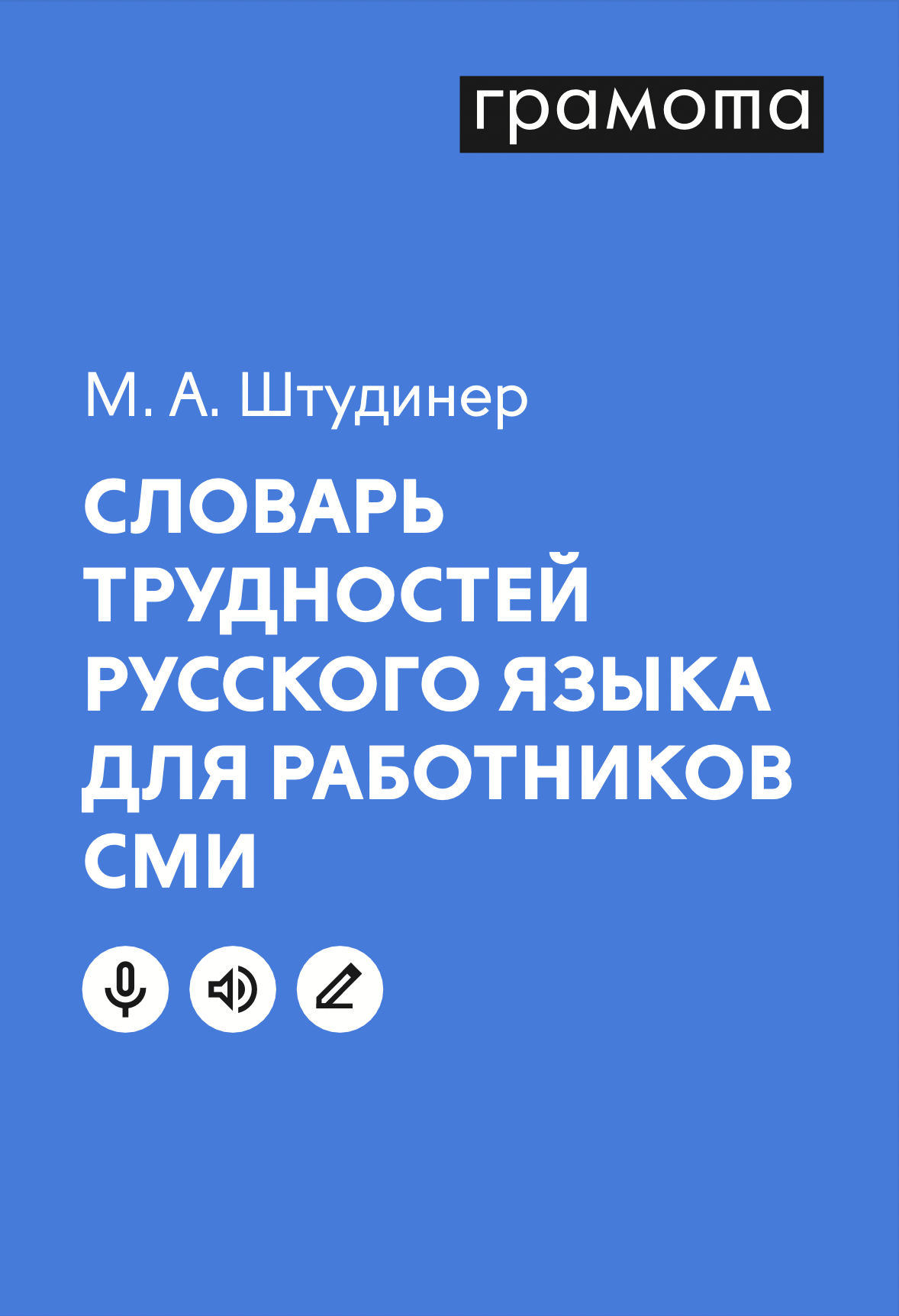
Но главное отличие в том, что в новом издании добавлены 563 новые словарные статьи. Среди добавленных есть слова, которые появились в русском языке только в последние десятилетия. Но есть и давно известные, но не вошедшие в предыдущие издания: например, Ми́лан Ку́ндера (родительный падеж — Ми́лана Ку́ндеры); в произношении этого имени и фамилии часто ошибаются.
Когда есть колебания в ударении в заимствованных словах, в большинстве случаев нужно обращаться к языку-источнику. Но если есть сформировавшаяся русская традиция, то надо следовать ей. Многие люди, если их попросить назвать столицу Шотландии, скажут Э́динбург, а потом извиняющимся тоном добавят, что по-русски говорят Эдинбу́рг. Я убежден, что извиняться за русский язык совершенно не нужно, поэтому я дал в словаре именно этот вариант — Эдинбу́рг.
Что такое в вашем понимании норма? Она существует в языке объективно или ее создают (и навязывают говорящим) лингвисты?
М. Ш.: Вернемся к вопросу замминистра про советский цирк. Через некоторое время мне позвонил его разъяренный референт и потребовал назвать фамилию, имя и должность того, кто отвечал на вопрос. Я представился, и он меня спросил: «Зачем Вы даете такую норму?» Очевидно, он неправильно себе представлял, что такое норма. А она имеет объективный характер, это вовсе не диктат языковедов.
Языковая норма, как я ее понимаю, — это то, как принято говорить и писать в конкретном обществе в определенный период.
Никто не может ввести в обиход какое-нибудь слово или, наоборот, что-то запретить в языке, изъять из него. Нормы складываются постепенно, сами по себе — в языковой практике людей, обладающих высокой речевой культурой: писателей, ученых, журналистов. Об объективном характере нормы писал еще Пушкин: «Грамматика не предписывает законов языку, но изъясняет и утверждает его обычаи»1.
Изданию любого словаря или справочника предшествует кропотливая работа. Ученые с помощью разных методик изучают, как говорят и пишут образованные люди. В частности, в каких значениях носители употребляют слова, как на их речь влияет ситуация общения. Если в расслабленной обстановке даже образованный человек может сказать мне есть чем писать, то во время научного доклада такое выражение будет звучать неуместно.
 Страсти вокруг нормыСветлана Друговейко-Должанская о том, почему кодификация языковых явлений не может строиться на личных предпочтенияхПолучив таким образом представление об объективно сложившихся в литературной речи традициях, языковеды закрепляют их в разных словарях и справочниках. И дают иногда довольно жесткие рекомендации.
Страсти вокруг нормыСветлана Друговейко-Должанская о том, почему кодификация языковых явлений не может строиться на личных предпочтенияхПолучив таким образом представление об объективно сложившихся в литературной речи традициях, языковеды закрепляют их в разных словарях и справочниках. И дают иногда довольно жесткие рекомендации.
Закрепление в словарях и справочниках — это уже кодификация. Как она соотносится с нормой?
М. Ш.: Кодификацией называют фиксацию объективно существующих литературных норм. Я строго различаю норму как объективное явление и кодификацию как то, что делают люди.
Впервые последовательно разграничили понятия нормы и кодификации в своих трудах ученые Пражского лингвистического кружка — это было объединение языковедов, которое существовало в Праге до Второй мировой войны. В него входили в том числе и такие выдающиеся российские ученые, как Сергей Осипович Карцевский, Николай Сергеевич Трубецкой, Роман Осипович Якобсон.
Члены Пражского кружка полагали, что норма присуща не только литературному языку, но и любому говору или жаргону.
Но только литературная норма кодифицируется, то есть преподносится в виде правил. А кодификация, в свою очередь, влияет на речевую практику, предписывает определенное речевое поведение. Признаюсь, я бы с удовольствием употреблял в качестве формы множественного числа от слова шофер вариант шофера́. Но я не стану этого делать, потому что люди того круга, с которым я бы хотел себя ассоциировать, говорят только шофё́ры. И я, можно сказать, «наступаю на горло собственной песне», но «подчиняюсь» кодификации.
Значит ли это, что специалисты могут ошибаться, формулируя правила?
М. Ш.: Норма складывается стихийно, а ученые лишь пытаются ее зафиксировать, поэтому не все рекомендации обязательно удачны или актуальны. В «Орфоэпическом словаре русского языка» под редакцией Рубена Ивановича Аванесова рекомендуется произносить божественный как боже[с’т’в’]енный, а вариант боже[ств’]енный приводится лишь как допустимый (то же в отношении слов торжественный, естественный и т. п.). Это противоречит языковому опыту, вероятно, каждого из нас. Следовательно, такую рекомендацию можно смело считать устаревшей.
 Как правильно произносится это слово? Отвечают орфоэпические словариНормы устной речи меняются на наших глазахПриведу другой пример. В Большом орфоэпическом словаре написано, что слово Бог употребляют по отношению к христианскому Богу и его нужно произносить как Бо[х], а слово бог обозначает языческое божество и произносится как бо[к]. Я думаю, что современный носитель русского языка не меняет произношение в зависимости от того, о каком боге идет речь. Либо он всегда говорит бо[х], либо всегда бо[к], будь то Бог Библии или греческий Зевс. А второй вариант по отношению к христианскому Богу я, к сожалению, слышал даже в речи очень уважаемых мной священников.
Как правильно произносится это слово? Отвечают орфоэпические словариНормы устной речи меняются на наших глазахПриведу другой пример. В Большом орфоэпическом словаре написано, что слово Бог употребляют по отношению к христианскому Богу и его нужно произносить как Бо[х], а слово бог обозначает языческое божество и произносится как бо[к]. Я думаю, что современный носитель русского языка не меняет произношение в зависимости от того, о каком боге идет речь. Либо он всегда говорит бо[х], либо всегда бо[к], будь то Бог Библии или греческий Зевс. А второй вариант по отношению к христианскому Богу я, к сожалению, слышал даже в речи очень уважаемых мной священников.
Какие ошибки Вы замечаете в речи других чаще всего?
М. Ш.: Мне никогда не бывает скучно ни на каких собраниях, потому что я внимательно прислушиваюсь к тому, как говорят люди. Очень частая ошибка, которую допускают даже журналисты крупных радиостанций, связана со склонением числительных. Например, вместо правильного нет восьмисот (рублей) говорят восьмиста.
Многие также подвержены речевому конформизму. Один очень хороший журналист в эфире сказал достаточно мало, чтобы выразить значение приблизительности. Это неправильно, следовало бы сказать довольно мало, но слово достаточно в подобных контекстах стали так часто употреблять, что даже грамотные люди невольно этому подчиняются.
Какие изменения нормы можно предсказать уже сегодня?
М. Ш.: Мне кажется, что слово кофе рано или поздно окончательно изменит род на средний — такова судьба всех неодушевленных несклоняемых имен существительных. Однажды я видел на Тверской улице вывеску «Черный кофе холодное». Даже вопреки тому, что автору вывески знакомо выражение черный кофе, в его сознании кофе — среднего рода, поэтому и холодное. Интересно, что в начале XX века у слова такси были колебания: оно могло употребляться в мужском (такси приехал) или женском роде (моя такси). Но, как мы видим, сейчас это слово исключительно среднего рода.
Рекомендации следует менять тогда, когда накапливается достаточное количество примеров нового употребления тех или иных слов в речи авторитетных, уважаемых носителей русского языка.
В «Словаре трудностей русского языка» Дитмара Эльяшевича Розенталя мы можем увидеть, что существительное персонаж склоняется в единственном числе как неодушевленное: Вы должны ясно видеть этот персонаж. Если сегодня носитель русского языка скажет видеть этого персонажа, то абсолютно никто не воспримет это как ошибку. Значит, теперь это норма.
Как найти баланс между старым и новым при кодификации?
М. Ш.: Важный аспект кодификации состоит в том, что она должна стоять на страже культурно-языковой традиции. Поэтому мне бы не хотелось, чтобы произношение до[шт’] вытеснило вариант до[ш’]. У Анны Ахматовой есть стихотворение, которое разрушится, если норма изменится:
Умолк вчера неповторимый голос,
И нас покинул собеседник рощ.
Он превратился в жизнь дающий колос
Или в тончайший, им воспетый дождь.
Можно вспомнить также строки Пушкина: Он с лирой странствовал на свете; / Под небом Шиллера и Гете. Пушкин использовал русифицированный вариант Ге́[т’и], который в современном языке уже утрачен; мы употребляем только произносительный вариант с твердым согласным — Гё[ты].
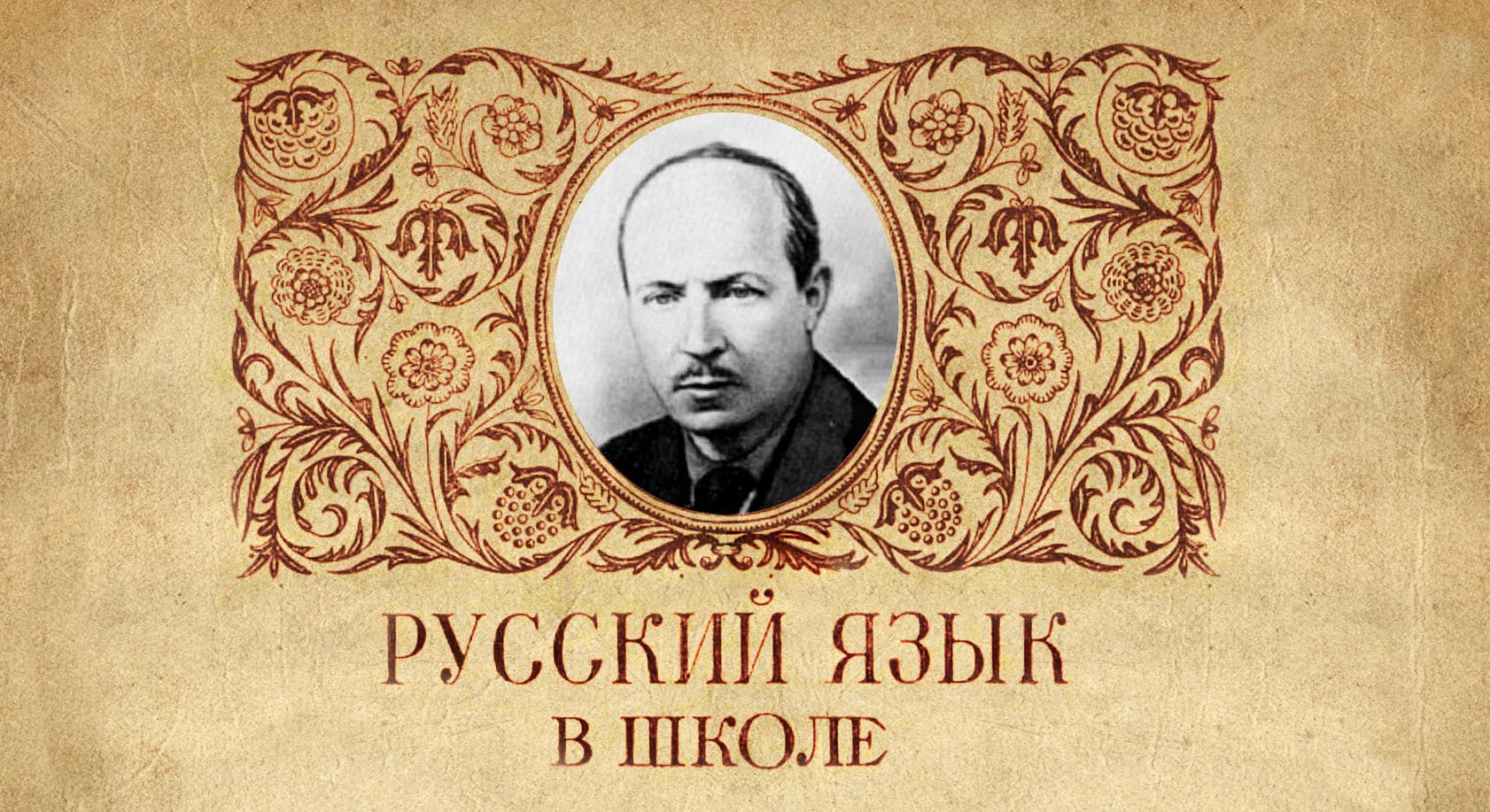 Из наблюдений над языком стихотворения Пушкина «Памятник»Правильно ли мы читаем и понимаем программное стихотворение поэта?Михаил Викторович Панов говорил, что «в орфоэпии прогрессивен традиционализм»2. По моему мнению, необходимо искать золотую середину: с одной стороны, не нужно спешить изгнать из языка то, что в нем еще живо, но с другой — надо иметь решимость рекомендовать новое, когда это стало необходимым.
Из наблюдений над языком стихотворения Пушкина «Памятник»Правильно ли мы читаем и понимаем программное стихотворение поэта?Михаил Викторович Панов говорил, что «в орфоэпии прогрессивен традиционализм»2. По моему мнению, необходимо искать золотую середину: с одной стороны, не нужно спешить изгнать из языка то, что в нем еще живо, но с другой — надо иметь решимость рекомендовать новое, когда это стало необходимым.
Еще на
эту тему
Мария Каленчук: «Да, мы ориентируемся на живую речь!»
В издательстве «Грамота» вышел Большой словарь ударений
«Розенталь хотел, чтобы мы гибко подходили к языку»
Заведующий кафедрой стилистики русского языка факультета журналистики МГУ Владимир Славкин — о том, что отличало Дитмара Розенталя как автора, педагога и консультанта
Майя Владимировна Зарва — о пользе словарей для работников радио и телевидения
Многие слушатели продолжают считать речь, звучащую в эфире, образцовой, стараются ей следовать
























