Мария Каленчук: «Да, мы ориентируемся на живую речь!»

Чем отличается словарь ударений от орфоэпического? На что должен опираться специалист при составлении словаря? Какие существуют мифы вокруг ударений и почему нам так важно отстаивать форму звони́т? Обо всем этом мы поговорили с автором нового «Большого словаря ударений русского языка», доктором филологических наук, заведующей отделом фонетики и главным научным сотрудником Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН Марией Каленчук.
Напомним для начала, чем словарь ударений отличается от орфоэпического.
Мария Каленчук: Орфоэпический словарь содержательно поглощает словарь ударения. В орфоэпическом словаре две точки приложения: место ударения в слове и произношение звуков (конечно — коне[шн]о и т. п.). В словаре ударений — только ударение.
Над словарем ударений мы работали около трех лет, а до этого три года занимались социолингвистическими исследованиями ударения. Так что в общей сложности — шесть лет целенаправленной работы, плюс весь предыдущий научный опыт.
Сколько слов вы описали в этот раз?
М. К.: Объем словника — около 30 тысяч слов. Для словаря ударений это много, потому что мы включали только слова, имеющие какую-то акцентологическую проблему. Были сформулированы жесткие критерии включения в словник тех или иных слов, они описаны в теоретической статье.
В словарь попали в том числе новые слова. Мы делали специальные выборки, фиксировали то, что мы слышали в живой речи, встречали в интернете. Поэтому у нас встречаются современные слова типа миллениáл или кови́д (который у нас равноправен с ко́вид). Словом, включали всё, что нуждалось в упоминании.
Как этот словарь соотносится с новым государственным орфоэпическим словарем и со школьной программой?
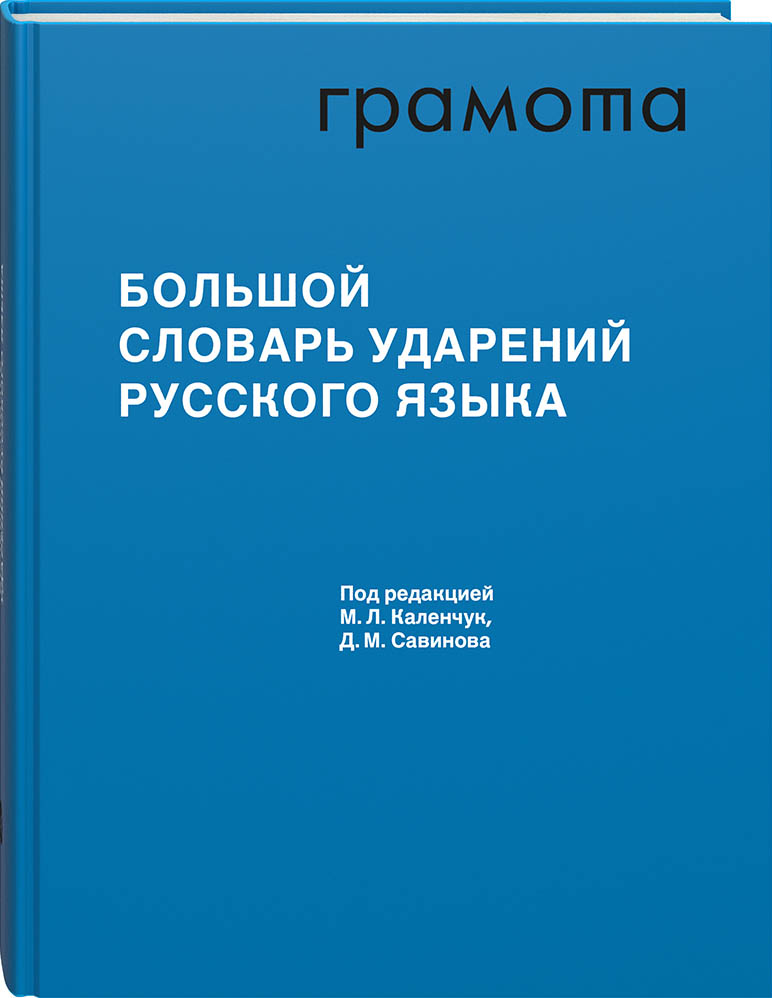
М. К.: Орфоэпический словарь русского языка как государственного основан на двух разных источниках: на Большом орфоэпическом словаре, который мы делали вместе с Леонидом Леонидовичем и Розалией Францевной Касаткиными, и на новом словаре ударений, о котором мы говорим.
В словаре ударений, поскольку это академический фундаментальный словарь, мы пытались показать реальное многообразие литературных вариантов. А в государственном словаре действует заданный изначально принцип «никакой вариантности, кроме случаев абсолютного равноправия вариантов». Это случаи типа тво́рог — творо́г, которых в области ударения на самом деле очень мало.
Я люблю разнообразие, когда оно оправданное и культурное. Мне смешны попытки все нормализовать. Язык — очень устойчивая система, которая прекрасно умеет сама за себя постоять.
Мы по отношению к языку — наблюдатели, а не деятели. Мы изучаем, как говорят люди, а не предписываем, как им говорить.
Что касается школьной программы — словарь соотнесен с ней только там, где мы считаем это правильным. Ну, например, ба́ловать и балова́ть. Мы знаем, что все справочники, особенно по культуре речи, рекомендуют только балова́ть. Но все массовые исследования звучащей речи, которые мы проводили, показывают, что два варианта сосуществуют равноправно. Пастернак писал: Нас время ба́лует победами. Вознесенский писал: За что нас только бабы ба́луют, И губы, падая, дают. В этом случае мы сочли необходимым давать равноправно ба́ловать и балова́ть.
Более того, в словаре ударений приведены устарелые произношения, которые можно встретить в художественной литературе, с примерами. Нет ни одного устаревшего варианта, который бы не сопровождался авторитетным примером — чтобы показать, что это не наша выдумка. Предположим, мы видим вариант в бага́же — и пожалуйста, пример из Фета: Все те же рельсы и машина та же, и мчит тебя, как чемодан в бага́же.
Значит, работникам СМИ, которые любят однозначность, лучше пользоваться другими словарями, где указан только один правильный вариант?
М. К.: Уже давно прошли времена, когда звучащая в СМИ речь была некой особой подсистемой, противопоставленной реальной звучащей речи. Тенденция начинала ломаться еще в 90-е годы, после перестройки. Ничего страшного в вариантах ударения нет — в том случае, конечно, если употребляются два литературных варианта, а не литературный и просторечный, литературный и устарелый. Но в нашем словаре всегда можно определить, какой из них допустим в СМИ.
Чем ваш словарь отличается от других словарей того же типа?
М. К.: Я бы начала с того, каково наше кредо. Кодификация норм должна отражать реальную речь образованных людей, а не наше представление о хорошей речи.
 Мария Каленчук: «Нормативные рекомендации должны опираться на речевую практику образованных людей»Что волнует русистов сегодня? Опрос ГрамотыЭтому словарю предшествовали огромные социолингвистические исследования. На статистически значимых выборках мы проверяли всё, что у нас вызывало сомнения или было предметом разночтений у разных авторов. У нас за словарем стоит исследовательская процедура, где всё запротоколировано. Это придает, на мой взгляд, другое наполнение слову «авторитетность». Мы можем объяснить, почему мы приняли то или иное решение. У нас нет слов «мне кажется». А я не знаю ни одного другого словаря, написание которого сопровождалось бы исследованием.
Мария Каленчук: «Нормативные рекомендации должны опираться на речевую практику образованных людей»Что волнует русистов сегодня? Опрос ГрамотыЭтому словарю предшествовали огромные социолингвистические исследования. На статистически значимых выборках мы проверяли всё, что у нас вызывало сомнения или было предметом разночтений у разных авторов. У нас за словарем стоит исследовательская процедура, где всё запротоколировано. Это придает, на мой взгляд, другое наполнение слову «авторитетность». Мы можем объяснить, почему мы приняли то или иное решение. У нас нет слов «мне кажется». А я не знаю ни одного другого словаря, написание которого сопровождалось бы исследованием.
Другое дело, что мы выбираем — чей узус исследовать, на чью речь опираться. И исследуем его грамотно. Мы не подходим и не спрашиваем: «Ты произносишь укра́инский или украи́нский?» Как только человек начинает думать, можно сразу перечеркнуть результат эксперимента. Он не должен догадываться, что именно нас интересует.
А много ли было внесено изменений в ударения по сравнению с предыдущими словарями?
Когда мы только составляли словник, мы всё время встречали фантастические ударения, которых, на наш взгляд, не может быть в современном языке. Приведу пример из словаря под редакцией Р. И. Аванесова — одного из самых, если не самого авторитетного орфоэпического словаря1. Там приведены два ударения: бижуте́рия и бижутери́я. Я в жизни не слышала, чтобы кто-то произнес бижутери́я. А в этом словаре они равноправны. Или другой пример — допускается только гаста́рбайтер, а гастарба́йтер снабжен пометой «не рекомендуется». Но все говорят гастарба́йтер!
Почему мы должны в словаре, который по сути дела является практическим справочником для говорящих сегодня людей, сообщать недостоверную информацию?
В таких точках — а их не десять и не двадцать, а сотни, — мы принципиально пересмотрели нормы. Даже при том, что мы изначально говорили себе, что надо постараться не прыгать сразу через два шага в эволюции, в каких-то случаях это просто необходимо. Если сказать, допустим, геликопте́р вместо гелико́птера, вас просто не поймут. А в Аванесовском словаре, например, вариант гелико́птер вообще не обсуждается.
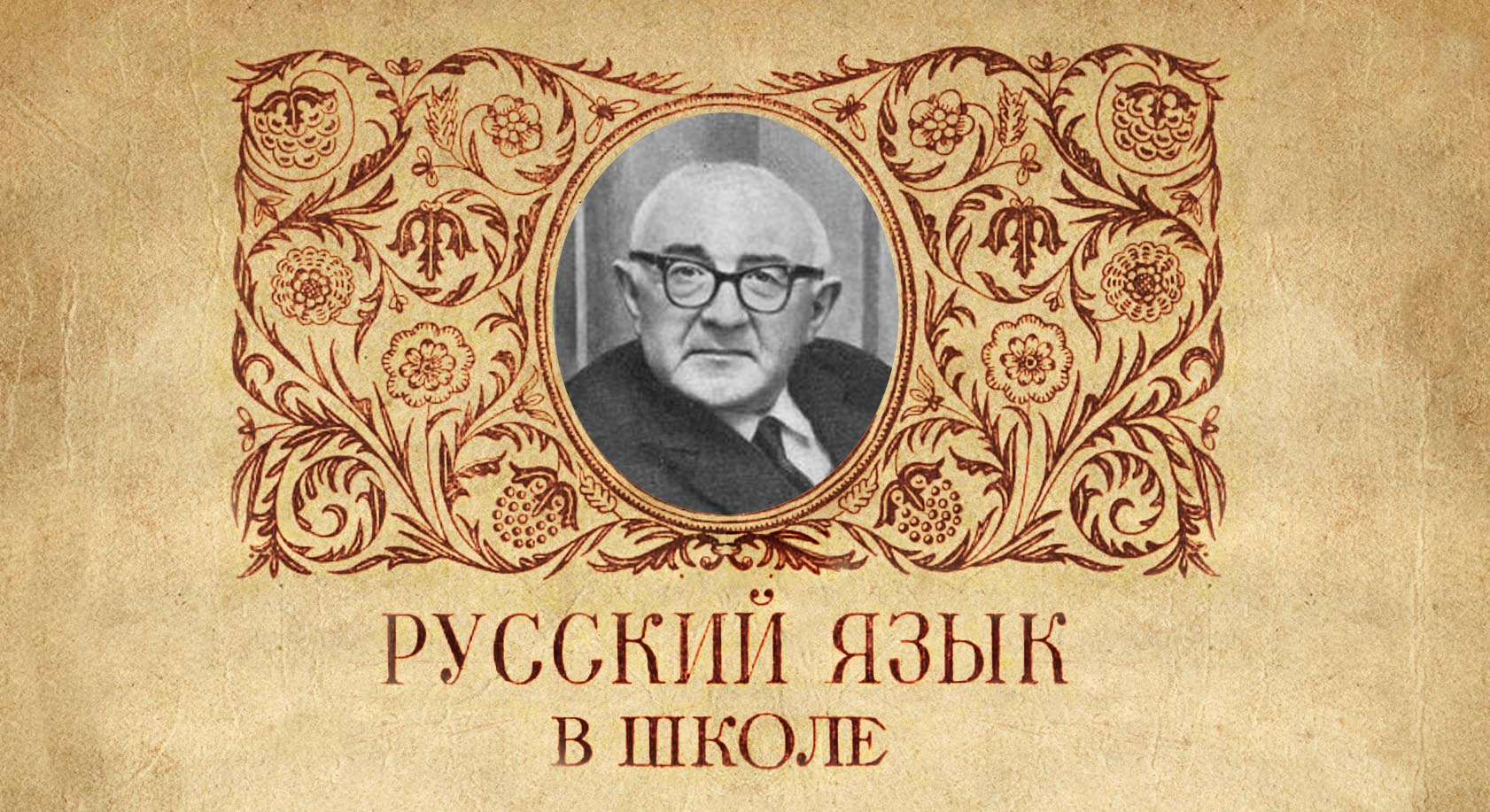 Об ударении в русском языкеРубен Аванесов в специальном проекте Грамоты к столетию журнала «Русский язык в школе»Следование классическому идеалу, которого придерживаются многие орфоэписты, не всегда оправдано. Особенно если этот идеал есть в теории, в голове у специалиста, но не в речи образованных людей. И если мы бы все придерживались такого подхода, мы до сих пор бы говорили библио́тека, кладби́ще, суффи́кс. Почему многие наши коллеги стесняются говорить, как будто это что-то неприличное, — «мы ориентируемся на живую речь (на то, что лингвисты называют узусом)»? Мы этого не стесняемся, мы этим гордимся.
Об ударении в русском языкеРубен Аванесов в специальном проекте Грамоты к столетию журнала «Русский язык в школе»Следование классическому идеалу, которого придерживаются многие орфоэписты, не всегда оправдано. Особенно если этот идеал есть в теории, в голове у специалиста, но не в речи образованных людей. И если мы бы все придерживались такого подхода, мы до сих пор бы говорили библио́тека, кладби́ще, суффи́кс. Почему многие наши коллеги стесняются говорить, как будто это что-то неприличное, — «мы ориентируемся на живую речь (на то, что лингвисты называют узусом)»? Мы этого не стесняемся, мы этим гордимся.
Как вы поступали с профессиональным жаргоном, в котором ударение часто смещается? Компа́с, до́быча, осу́жденный...
М. К.: У нас в словаре принята принципиально новая концепция профессионального ударения. Дело в том, что есть путаница в понимании того, что является профессиональным ударением, а что — нет. С одной стороны, есть примеры действительно профессионального ударения — у моряков компа́с, у физиков — ато́мный вес. Это понятно и логично. Но с другой стороны, в словарях можно встретить совершенно абсурдные примеры. Я нашла утверждение, что слово мы́шление относится к профессиональной речи гуманитариев, а мышле́ние — к речи всех остальных. Или другой пример: пишут, что блюда́ и соуса́ — якобы часть профессиональной речи официантов.
Мы взяли сплошную выборку слов, которые в разных словарях помечены как имеющие профессиональное ударение, и проверили их. Находили профессиональную группу — например, обращались в несколько клиник, чтобы нас включили в чаты для врачей, — и оценивали, насколько такая форма используется как жаргонизм.
 Врач Андрей Гришковец — сторонник канцеляризмов в медицинской документации, но не в живой речиКак врачи общаются друг с другом и с пациентамиПо результатам этой проверки мы разделили слова на две группы. Первая — это ударение, характерное для сленга определенных профессий: те же компа́с и ато́мный вес, многочисленные медицинские термины с компонентом -фоби́я (врачи упорно ставят ударение на и), некоторые другие специальные термины. Но таких слов оказалось крайне мало — примерно 10% от всех якобы «профессиональных» вариантов.
Врач Андрей Гришковец — сторонник канцеляризмов в медицинской документации, но не в живой речиКак врачи общаются друг с другом и с пациентамиПо результатам этой проверки мы разделили слова на две группы. Первая — это ударение, характерное для сленга определенных профессий: те же компа́с и ато́мный вес, многочисленные медицинские термины с компонентом -фоби́я (врачи упорно ставят ударение на и), некоторые другие специальные термины. Но таких слов оказалось крайне мало — примерно 10% от всех якобы «профессиональных» вариантов.
Остальные 90% случаев — обычная некультурная речь, которую ошибочно приписывают профессиональным группам. Например, бампера́ якобы говорят шоферы-автолюбители, а ба́мперы — профессионалы. Но это неграмотность, а не профессиональная особенность. Поэтому ко всяким блюда́м, соуса́м и прочим бампера́м мы писали помету «неправильно».
Как вы описываете в словаре случаи подвижного ударения?
М. К.: Мы используем диагностические формы, по которым можно определить, подвижное или неподвижное ударение у слова, и если подвижное, то какой именно тип подвижности.
Для существительных показательными будут родительный падеж единственного числа, именительный падеж множественного числа, дательный падеж множественного числа (поскольку ударение чаще всего «прыгает» именно во множественном числе, особенно в косвенных падежах).
Этих трех форм достаточно, чтобы восстановить ударение во всей парадигме любого существительного.
Мы не экономим место и указываем каждую грамматическую форму полностью, потому что обычный пользователь, видя запись типа стол, -а, просто не понимает, о чем идет речь. Для глаголов — 1-е лицо единственного числа, 3-е лицо множественного числа. В русском языке нет ни одного полного прилагательного с подвижным ударением, поэтому для прилагательных приводим только краткие формы, и то только в тех случаях, когда есть передвижка ударения (весел — весела́, добр — добры́).
В каких грамматических категориях слов чаще встречаются ошибки в ударении?
М. К.: Основные проблемные зоны — прошедшее время глаголов, особенно в женском и среднем роде (пи́ли — пила́, на́чали — начала́), краткие прилагательные и краткие страдательные причастия. Все эти изменения не случайны — они связаны с процессом грамматикализации. Мы в словаре не описываем причины, а только наблюдаем следствия. Но если говорить о причинах, то они грамматические, а не фонетические: ударение разграничивает единственное и множественное число; ударение противопоставляет один род всем остальным (в кратких формах).
Остальные случаи носят точечный характер.
Почему история с возможным изменением нормы ударения в слове звонит вызывает такую бурную реакцию?
Есть слова, которые становятся таким назначенным маркером культурной речи. Для сравнения: на уровне произношения есть [ж’ури] и [жури]. Многие словари рекомендуют произношение с мягким [ж’]. Наши эксперименты показывают, что 97% из сотен опрошенных говорят [жури]. Но почему-то [ж’ури] не стало показателем культурности, в отличие от звони́т. Честно говоря, я не выношу ударение зво́нит. Я подпрыгиваю, когда его слышу, и ничего не могу с собой сделать. Сама я никогда не скажу зво́нит. Но при этом говорю [жури].
В нашем словаре вариант зво́нит вообще-то запрещен. Но когда-нибудь ударение сместится, это неизбежно. Так произошло с подавляющим большинством слов на -ить. А звонить и некоторые другие слова просто позже начали этот процесс. Когда начали говорить он дру́жит вместо он дружи́т, людей это раздражало точно так же, как сейчас зво́нит.
Если какой-то процесс в языке начался, он будет происходить независимо от нашего желания, пока не исчерпает все возможности.
Поэтому звони́т — это случайно выбранный маркер, который стал символом речевой культуры.
Есть слова, которые не особенно частотны в речи, мы их не слышим, но читаем в книгах. И можем годами не знать, где там ставить ударение.
Когда я, воспитанная на 12-томнике Жюля Верна, пошла в школу, выяснилось, что я говорю мате́рик. Я никогда в жизни этого слова не слышала, видела только написанным в книгах. Для меня стало потрясением, что он на самом деле матери́к — я знала слово глазом, а не ухом.
Но значительная часть таких случаев — это фразеологизмы. Во фразеологизмах часто консервируется старое произношение. «Пришла беда — отворяй воротá» (хотя в свободном употреблении воро́та), «на воре́ и шапка горит» (хотя в свободном употреблении на во́ре). Современные молодые поколения, даже культурные, почти не пользуются фразеологией. Эти выражения они поголовно произносят с обычным ударением, как будто это не фразеологизм.
Другой интересный случай — названия художественных произведений, где ударение отличается от обычного: «Бегущая по волна́м» (в свободном употреблении можно и во́лнам и волна́м), повесть только «Каза́ки» (хотя вообще можно сказать казаки́ и каза́ки). Про газету «Ведомости» мы скажем «посмотри в „Ведомостя́х“, но не в ве́домостях — это уже про экзаменационную ведомость.
Мы нашли несколько десятков таких примеров. Их можно считать особым типом фразеологии, где фразеологизированным оказывается ударение.
В словаре мы широко применяли помету «сравни», потому что в ударении часто сталкиваются близкие явления. Прилагательное — колбаса варёная, но причастие — орехи, ва́ренные в меду. Мы делаем перекрестные ссылки: у варёный пишем «сравни с причастием от глагола варить», а у варить — «сравни с прилагательным варёный». Это касается многих пар: наречий и кратких форм прилагательных (бе́ло — бело́) и других. В этом прелесть работы над словарем: принимая решение по конкретному слову, начинаешь видеть то, что не замечал при глобальном подходе.
Существует ли персональный орфоэпический профиль человека?
Конечно, существует. Он называется идиостилем. В большинстве случаев он связан с семейной традицией. Если говорить о произношении и ударении, то очень часто то, что вы слышали с детства и что запало в душу, никакое последующее обучение орфоэпической грамотности и никакие словари уже не изменят.
Приведу такой пример. Александр Александрович Реформатский всячески ратовал за сохранение русского произношения. Свою дочь, известного искусствоведа Марию Александровну Реформатскую, он с детства воспитывал в духе старомосковского произношения. Она до сих пор говорит кори[ш]невый, ябло[ш]ный и так далее. Умом она понимает, что выглядит несовременно, но ничего не может с собой поделать. Это ее идиостиль, сформированный в детстве.
 Что такое старомосковское произношениеГовор стал престижным в тот момент, когда начал устареватьПомимо социологического аспекта есть и психологический. Люди в разной степени восприимчивы к окружающим произносительным явлениям. Одни как будто закрыты коконом — от них новшества отскакивают. Другие вбирают все изменения. Это очень сложно описать статистически в орфоэпическом исследовании, но такие различия определенно существуют.
Что такое старомосковское произношениеГовор стал престижным в тот момент, когда начал устареватьПомимо социологического аспекта есть и психологический. Люди в разной степени восприимчивы к окружающим произносительным явлениям. Одни как будто закрыты коконом — от них новшества отскакивают. Другие вбирают все изменения. Это очень сложно описать статистически в орфоэпическом исследовании, но такие различия определенно существуют.
Большой словарь ударений русского языка / Под ред. М. Л. Каленчук и Д. М. Савинова. М. : АСТ-ПРЕСС ШКОЛА, Грамота, 2025.
Еще на
эту тему
Разработчики нормативных словарей русского языка как государственного рассказали о целях и результатах своей работы
В пресс-центре «Россия сегодня» прошла презентация новых изданий
Современное русское произношение: лингвисты приглашают москвичей к участию в исследовании
Для чистоты эксперимента требуются люди, не имеющие филологического образования
Фонетист Дмитрий Савинов: «Нет универсального алгоритма обучения орфоэпии»
Вышел новый словарь трудностей произношения для школьников 5–11-х классов
























