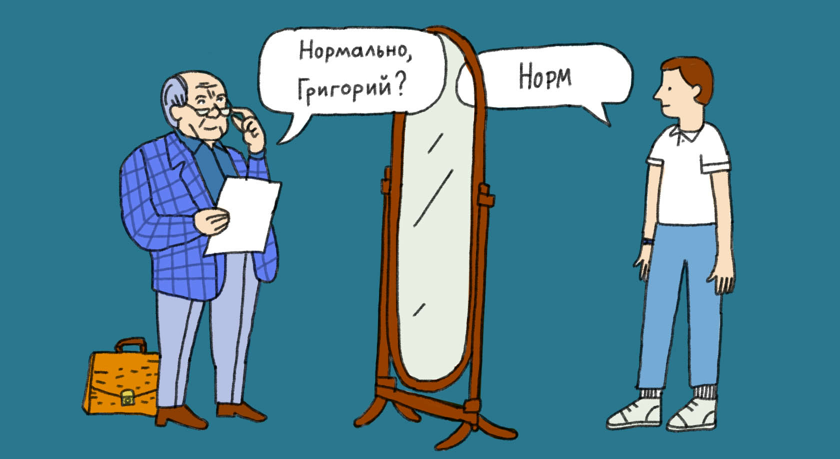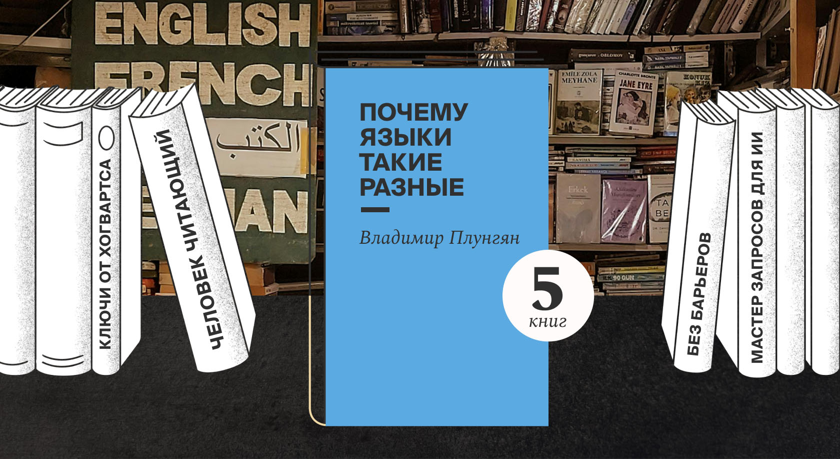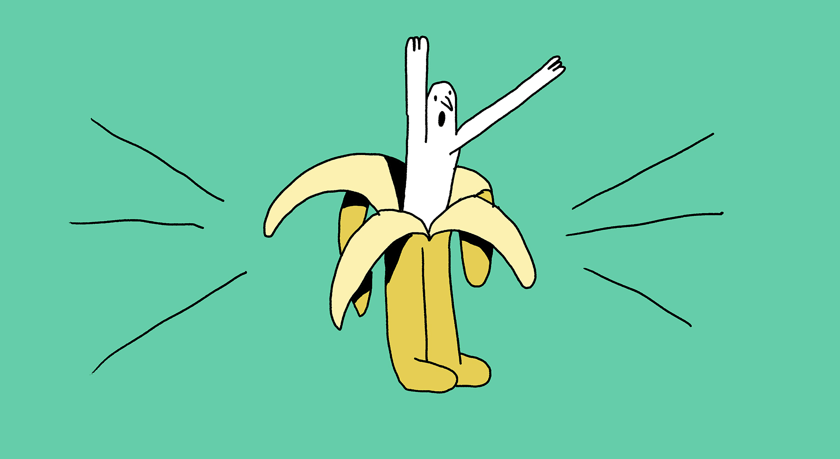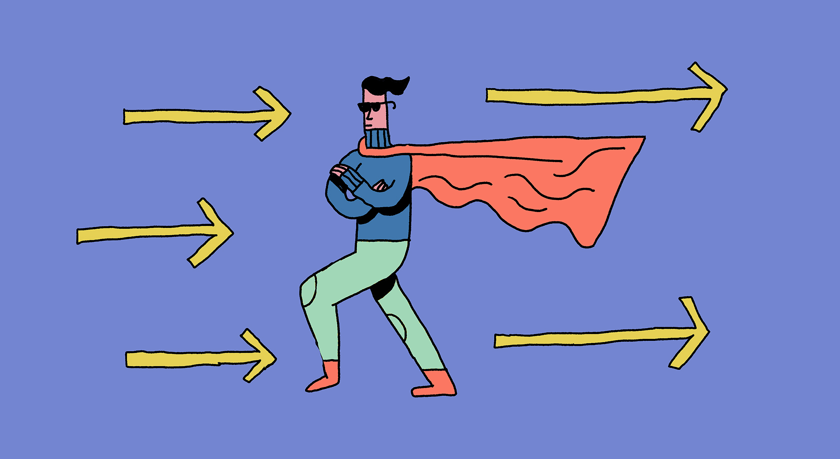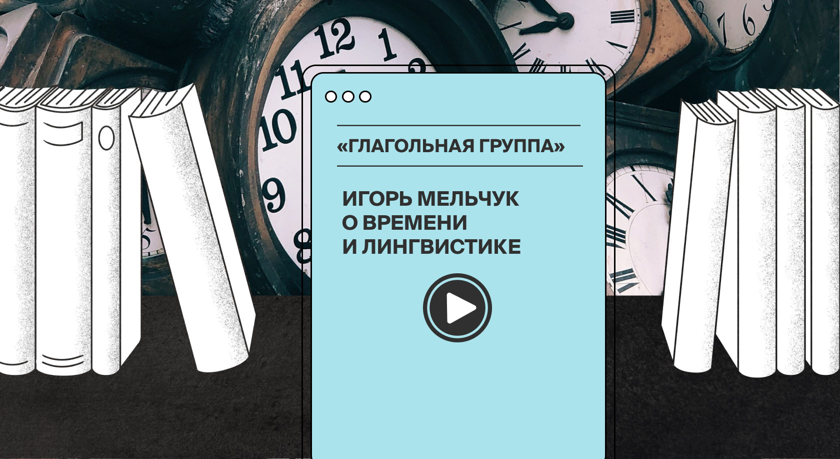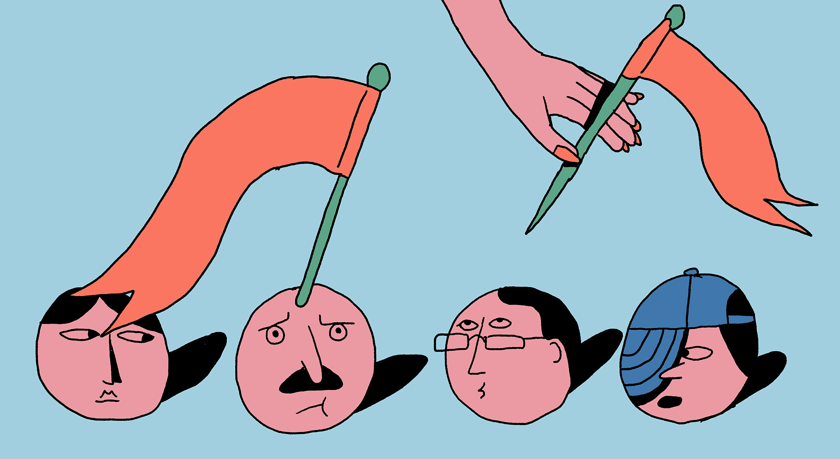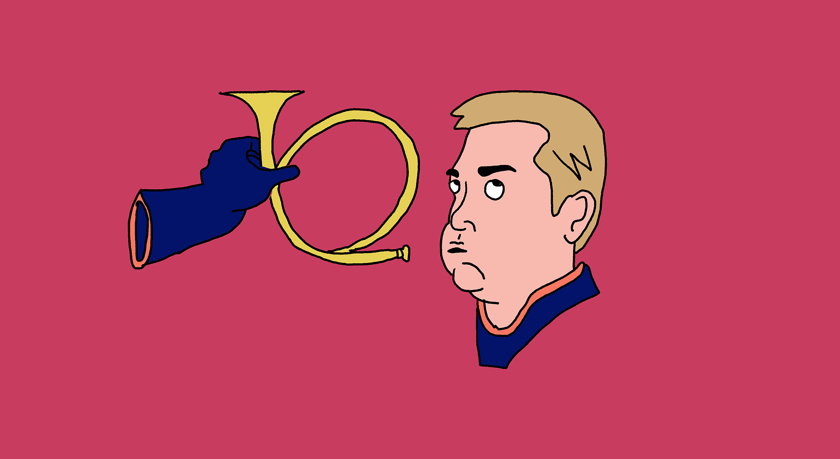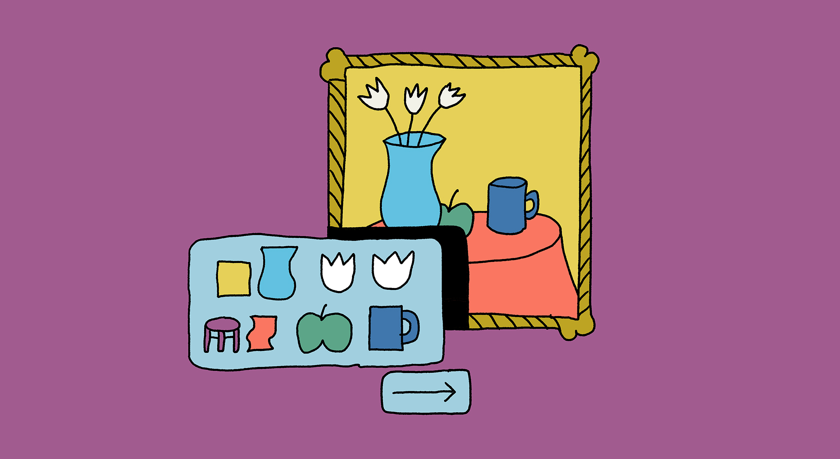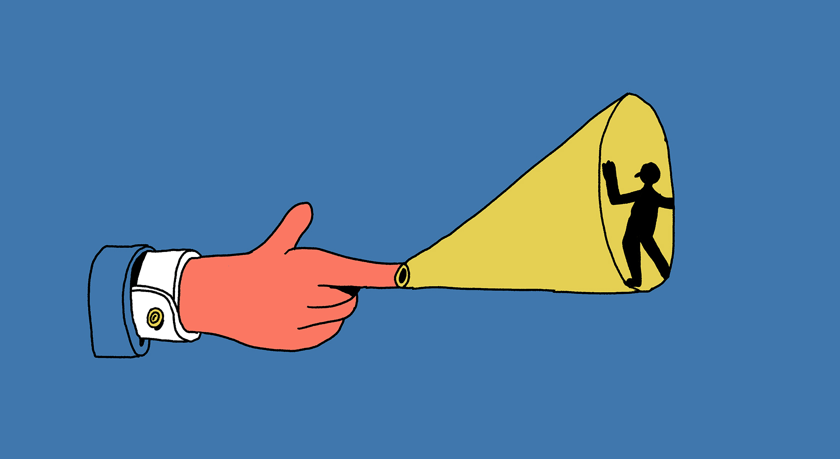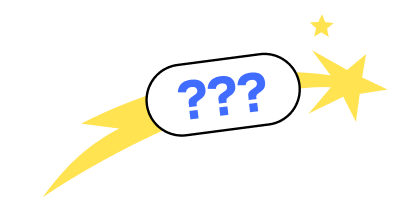Из наблюдений над языком стихотворения Пушкина «Памятник»

Предлагаем вниманию читателей портала статью Павла Яковлевича Черных, опубликованную в журнале «Русский язык в школе» (№ 3, 1949). Правильно ли мы читаем и, главное, понимаем программное стихотворение А. С. Пушкина? Как в черновиках поэта выглядели знакомые нам со школьной скамьи строки? Об этом идет речь в статье.
Предисловие «Грамоты.ру»
Павел Яковлевич Черных (1896–1970) — советский языковед, педагог, доктор филологических наук, профессор Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова.
Бо́льшую часть своей научной деятельности П. Я. Черных посвятил изучению словарного состава русского языка: лексики отдельных памятников письменности, некоторых писателей, различных периодов истории русского языка, диалектной лексики. Следствием и итогом всех этих многолетних исследований ученого стал «Историко-этимологический словарь русского языка» — главный труд его жизни.
Над словарем Павел Яковлевич Черных работал больше пятнадцати лет, но не дожил до выхода книги в свет. После смерти ученого эту работу продолжили его ученики и последователи. В итоге словарь вышел в свет через 23 года после смерти автора и стал одним из самых авторитетных этимологических словарей русского языка.
Из наблюдений над языком стихотворения Пушкина «Памятник»
В конце августа 1836 года, за пять месяцев до дуэли, Пушкин закончил стихотворение, впоследствии получившее название «Памятник», проникнутое высоким сознанием личного достоинства и величия того дела, которому была посвящена жизнь, подводящее итоги пройденному творческому пути, представляющее собою, в сущности, прощание с друзьями-современниками и обращение к потомству.
Как известно, это стихотворение Пушкина по своей теме (подведение итогов поэтической деятельности) имеет отдаленную связь со знаменитой одой Горация Ad Melpomenam. На русской почве стихотворения в этом роде были известны и до Пушкина. Сюда относится прежде всего «Памятник» Державина, начинающийся словами: Я памятник себе воздвиг чудесный, вечный. Не подлежит, однако, сомнению, что эти два стихотворения, столь близкие по теме и по форме, глубоко различны по существу, по содержанию. Это различие, конечно, определяется главным образом различиями самой исторической действительности, в условиях которой протекала поэтическая деятельность обоих авторов и в зависимости от которой они по-разному понимали задачи поэтического творчества.
Пушкинский «Памятник» отталкивается от державинского. Он представляет собой как бы поэтический ответ великого русского народного поэта прославленному «певцу Фелицы». Поэтому местоимение я в начале первого стиха у Пушкина, пожалуй, имеет значение примерно «а я» или «что касается меня, то я», что соответствующим образом должно быть подчеркиваемо при чтении (с помощью ритмико-мелодических средств):
Я памятник себе воздвиг нерукотворный (:)
К нему не зарастет народная тропа.
Остановимся сначала на некоторых вопросах чтения пушкинского «Памятника». Мне кажется, что можно считать бесспорным, что при чтении старых авторов должны быть учитываемы правила произношения и ударения слов, существовавшие в литературном языке их времени. Нет необходимости, однако, говорить здесь о правилах произношения вообще. Московское произношение, конечно, являлось образцовым и сто лет назад. Во всяком случае, в отношении автора «Памятника» этого вопроса не должно существовать. Пушкин был природным москвичом. Он родился в Москве. Здесь он учился говорить, учился произносить слова. Правила произношения, которым следовал он, по большей части обязательны и для нас. Сделаем некоторые замечания относительно лишь отдельных слов, которые теперь мы произносим иначе.
Как прочесть вознесся: вознёсся или вознесся? Принимая во внимание, что произношение е (не ё) перед твердыми согласными в книжных, «славянских» словах еще и в пушкинское время являлось одним из средств повышения стиля, что Пушкин часто пользуется этим приемом и что стихотворение «Я памятник себе воздвиг нерукотворный» вообще написано в «мажорных» тонах (о чем ниже), — я более склонен читать это слово с е, чем с ё: вознесся, хотя доказать правильность такого чтения в данном случае невозможно.
Что касается русских по форме глаголов зарастёт, переживёт, пройдёт, назовёт, то здесь едва ли имело место это явление, но я затруднился бы сказать, что такая возможность здесь совершенно исключается. Ср. даже в баснях Крылова:
Когда в товарищах согласья нет
На лад их дело не пойдет, —
и др.
Остальные слова в отношении е не представляют ничего спорного.
В третьей строфе слово дикий (им. ед.) рифмуется с великой (дат. ед.: по всей Руси великой). Рифма правильная: слово дикий по законам московского произношения должно звучать дикъй (с ъ из о в заударном положении). Поэтому в четвертой строфе слово жестокий (мой жестокий век) следует произносить (в его конечной части) совершенно таким же образом: жестокьй. Ср. также рифмы в первой строфе: нерукотворный : непокорной.
В последней строфе некоторые слова могут привлечь к себе внимание с точки зрения законов «аканья». Рифма послушна : равнодушно лишний раз свидетельствует об одинаковом произношении заударных о и а, о совпадении их в одном звуке (ъ). Более специальный случай — во втором стихе. В словосочетании не требуя венца последнее слово Пушкин, очевидно, произносил с е или близким к нему гласным в предударном слоге, а вовсе не с и, как, например, в слове винца (род. ед. от винцо). «Икающее» произношение (то есть употребление и вместо е, я) при известных условиях: нису, систра, питух, винца (= венца) и т. п. как норма в Москве установилось поздно.
С грамматической стороны, в частности морфологической, стихотворение Пушкина «Я памятник себе воздвиг нерукотворный» не вызывает особых замечаний, кроме, пожалуй, одного. В последнем стихе Пушкин говорит не оспоривай глупца, тогда как мы теперь сказали бы не оспаривай. Как известно, в старом русском языке глагольных образований на -ывать, -ивать с корневым гласным а вместо о типа нашивать было немного. Но с течением времени произошло расширение этой категории слов за счет глаголов, сохранявших о: упрочивать, подытоживать и т. д.1. К этой группе глаголов в пушкинское время (точнее — в речи самого Пушкина) принадлежал также глагол оспоривать2. Об обороте тленья убежит см. ниже.
Главным поэтическим орудием поднятия стиля, возвышения его, по выражению Ломоносова, «от обыкновенной простоты к важному великолепию», в XVIII столетии и в первой половине XIX служила «высокая» лексика с ее выдержанным, многовековым фондом — словами старославянского происхождения, не успевшими обрусеть, или славянизмами.
По большей части славянизмы характеризуются известными фонетическими признаками, как, например, отсутствие полногласия, сочетания щ : жд в соответствии с русскими ч : ж и др. Сюда относятся в данном случае:
- глава (Вознесся выше он главою непокорной);
- прах (Мой прах переживет и тленья убежит);
- сущий (И назовет меня всяк сущий в ней язык);
- пробуждал (Что чувства добрые я лирой пробуждал).
К этой группе славянизмов, несомненно, относятся и такие слова с приставкой воз-, как воздвиг (Я памятник себе воздвиг нерукотворный); восславил (Что в мой жестокий век восславил я свободу).
Остальные славянизмы не характеризуются какими-либо типическими признаками фонетического порядка:
- столп (Александрийского столпа).
Слово столп (в данном контексте в смысле колонна, или памятник) в пушкинское время воспринималось как элемент высокой лексики. Ср. в том же значении: Вкруг грозного столпа трикраты обвились (о памятнике в честь Кагульской победы; «Воспоминания в Царском Селе», 1814). В несколько сниженном употреблении это слово встречается в «Евгении Онегине»:
Пошел! Уже столпы заставы
Белеют. Вот уж по Тверской... (VII, 38)
- язык (И назовет меня всяк сущий в ней язык).
Принимая во внимание следующее дальнейшее перечисление: и гордый внук славян, и финн (и т. д.)», надо полагать, что слово язык здесь употреблено в значении ‘народ’ (то есть по-старославянски).
То же можно сказать и о местоимении всяк с его необычной (для русского языка) краткой формой им. ед. м. р. Спустя десять лет оно уже могло казаться ветхим. Об этом местоимении писал Белинский в своем знаменитом письме к Гоголю по поводу гоголевской фразы Дрянь и тряпка стал всяк человек: «И что за язык, что за фразы?.. Неужели вы думаете, что сказать всяк вместо всякий значит выразиться по-библейски?»
Таким образом, все словосочетание всяк сущий в ней язык, как оказывается, состоит у Пушкина из «высоких» слов, употреблявшихся в поэзии в особо торжественных случаях.
Архаическое причастие падший (И милость к падшим призывал), при разговорно-русском павший (ср. И падшего свежит неведомою силой, «Молитва», 1836), и архаическая глагольная форма приемли (Хвалу и клевету приемли равнодушно), при разговорно-русском принимай, в свою очередь, также способствуют повышению стиля всего произведения «от обыкновенной простоты к важному великолепию».
Сюда же, к категории «высокой» лексики, по-видимому, следует отнести отглагольные существительные: тленья убежит вместо от тленья (у Державина — тлена) и веленью божию, — именно эти существительные, с их отвлеченным значением, и именно в этом контексте. Следует отметить, кроме того, что слово тленья в грамматическом отношении представляет собой так называемый «родительный отложительный» (беспредложный) при глаголе убежит, означающем отдаление и пр., не употреблявшийся в разговорно-русском языке уже в пушкинскую эпоху.
Союзное слово доколь (Доколь в подлунном мире...), старославянское доколѣ, в поэтическом языке предшествующего времени не было известно за пределами высоких жанров, хотя, вообще говоря, оно не чуждо русскому языку и всегда употреблялось в диалектальной речи: доколь, докуль. У Пушкина это слово восходит к традиционной «высокой» поэтической лексике.
Но понятие «высокой» лексики не исчерпывается славянизмами. В старом поэтическом языке наряду со славянизмами и в той же функции употреблялись и некоторые греческие и латинские слова, особенно относящиеся к области классической мифологии и истории древнего мира.
В стихотворении «Я памятник себе воздвиг нерукотворный» сюда относятся греческие слова: лира (душа в заветной лире), муза (Веленью божию, о муза, будь послушна), а также пиит (Жив будет хоть один пиит) из греческого piitis, в то время как слово поэт восходит к латинскому poeta. В более ранних своих произведениях Пушкин редко пользовался греческим вариантом этого слова, причем обыкновенно в ироническом плане, как, например, в «Оде графу Хвостову» (1825):
А я, неведомый пиита,
В восторге новом воспою
Вослед пиита знаменита...
Несколько в ином роде ср. в черновых набросках к «Евгению Онегину»:
Но дорожит
Одними ль звуками пиит (гл. III).
Особого рассмотрения заслуживает прилагательное александрийский (Александрийского столпа) вместо александровский. Речь идет здесь, несомненно, об Александровской колонне, открытой 30 августа 1834 года на Дворцовой площади, в Петербурге, в честь Александра I. В своем дневнике в записи от 28 ноября 1834 года Пушкин упоминает об этом событии: «Я был в отсутствии. Выехал из П. за пять дней до открытия Александровской колонны (и пр.)». Прилагательное александрийский, вообще говоря, восходит к Александрии, названию египетской столицы; ср. у Пушкина в «Египетских ночах»:
Александрийские чертоги
Покрыла сладостная тень...
Употребив это прилагательное вместо александровский, поэт, как полагают, хотел замаскировать слишком откровенный характер своего утверждения, что его нерукотворный памятник, к которому не зарастет народная тропа, вознесся своей непокорною главою выше самой Александровской колонны, — утверждения, заключающего открытый вызов царю и его приспешникам.
Как известно, Жуковский, впервые, после смерти Пушкина, напечатавший (в 1841 году) это стихотворение (с заглавием «Памятник»), среди других изменений авторского текста, между прочим, допустил также нелепое искажение и смысла первой строфы, поставив вместо Александрийского столпа — Наполеонова. Даже нейтральное (и в известной мере «классическое») александрийский показалось Жуковскому в политическом отношении неприличным и дерзким.
При лингвистическом анализе любого художественного произведения не может быть игнорируема его собственно стилистическая сторона3. Сюда относятся, прежде всего, такие изобразительные средства, как эпитет. У Пушкина выражение художественной идеи «Памятника» преимущественно связано с искусным подбором эпитетов:
Я памятник себе воздвиг нерукотворный...
Вознесся выше он главою непокорной...
Душа в заветной лире...
И гордый внук славян...
Что в мой жестокий век восславил я свободу...
Впрочем, стихотворение Пушкина не перенасыщено в стилистическом отношении. Здесь, например, совсем не оказывается никаких сравнений. Метафорических выражений очень мало. Сюда относятся:
...Душа в заветной лире
Мой прах переживет и тленья убежит...
Доколь в подлунном мире
Жив будет хоть один пиит.
Таким образом, стихотворение «Я памятник себе воздвиг нерукотворный» по праву считается одним из лучших образцов богатых мыслями, изумительных по глубине и искренности чувства и в то же время поразительных по простоте художественного выражения пушкинских стихотворений.
Но мне кажется, что лингвистический (и в известной мере стилистический) анализ этого стихотворения нельзя считать законченным (хотя бы и в очень общем виде), если мы не дополним сделанные выше наблюдения еще одной справкой по истории авторского текста. Часто данные, относящиеся к творческой истории того или иного художественного произведения (если эти данные сохранились), могут пролить яркий свет на языковые особенности, на стилистические детали этого произведения. Как известно, Пушкин долго и упорно работал чуть не над каждой своей строкой, если она предназначалась для печати.
Судя по сохранившимся автографам «Памятника», московскому и петербургскому, с собственноручными поправками поэта4, Пушкин немало потрудился и над этим своим стихотворением. Так, окончательная редакция четвертой строфы, где поэт подчеркивает гражданское, общественное значение своей поэзии:
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил я свободу
И милость к падшим призывал...
установилась далеко не сразу. Сначала, наряду со свободолюбивым характером своей поэзии (Восслед Радищеву восславил я свободу и т. д.), Пушкину хотелось также отметить свои заслуги в области стихотворного, поэтического языка: Что в русском языке музыку5 я обрел... или Что звуки новые для песен (я обрел) и т. п.
Впоследствии, однако, в окончательной редакции, Пушкин исключил какое бы то ни было упоминание, так сказать, о «формальной» стороне своих стихотворных произведений. И Жуковский совершенно произвольно снова напомнил о ней в напечатанном в 1841 году тексте «Памятника»: Что прелестью живой стихов я был полезен, причем это было сделано им за счет упоминания о свободе.
Более конкретную форму в окончательной редакции получил также четвертый стих этой строфы: И милость к падшим призывал вместо первоначального: И милосердие воспел.
Первый стих пятой строфы сначала также выглядел иначе: Святому жребию, о муза, будь послушна... или: Призванью своему, о муза, будь послушна. Нельзя сказать, что и в окончательной редакции этот стих получил удачную форму: Веленью божию (?), о муза, будь послушна...
Впрочем, все это еще не имеет прямого отношения к языку и стилю стихотворения «Я памятник себе воздвиг нерукотворный». Однако некоторые пушкинские поправки имеют только грамматико-стилистическое значение. Так, во второй строфе в первом стихе сначала эпитет был в бессмертной лире, но Пушкин, может быть, ввиду того, что говорится далее в четвертой строфе: И долго (не «вечно», не «навсегда!») буду тем любезен я народу и пр., заменил этот эпитет другим, лучшим: в заветной лире, то есть любимой, дорогой, свято хранимой6.
В следующем стихе первоначально стояло: Меня переживет. В окончательной редакции Пушкин нашел более удачное выражение этой мысли: Мой прах переживет.
В третьей строфе первый стих сначала имел такой вид: Слух обо мне пройдет во все концы России... Пушкин оставил в окончательной редакции: Слух обо мне пройдет по всей Руси великой. Выражение во все концы России показалось ему, вероятно, слишком официальным или «прозаизмом».
В следующем стихе вместо (в окончательной редакции): И назовет меня всяк сущий в ней язык сначала Пушкин написал было: Узнает всяк живущий в ней язык.
Все эти изменения, вместе взятые, и, в особенности, эта замена причастия живущий, обычного в литературном русском языке, необычным сущий (в смысле «имеющийся», «находящийся») подтверждают уже ранее сделанное наблюдение, что в стихотворении, разбор которого мы на этом можем закончить, Пушкин преднамеренно пользовался «высокой» лексикой, искусно прививая то или другое книжное (обычно, в конечном счете, старославянское) слово к живой, народно-русской речевой ткани своего произведения.
Еще на
эту тему
До 15% программы по литературе в средней школе отводится на изучение Пушкина
В старших классах о нем напоминают произведения других авторов, считают в Министерстве просвещения
Ольга Сиротинина: «Так поняла, что Пушкин прав»
Правила жизни столетнего лингвиста
Как поэтическая речь влияет на формирование родного языка
На что опираться, чтобы сохранить язык у детей, если нет каждодневной русскоязычной среды