Ирина Левонтина: «Каждый живет в своем пузыре и не знает, что происходит в других изводах языка»
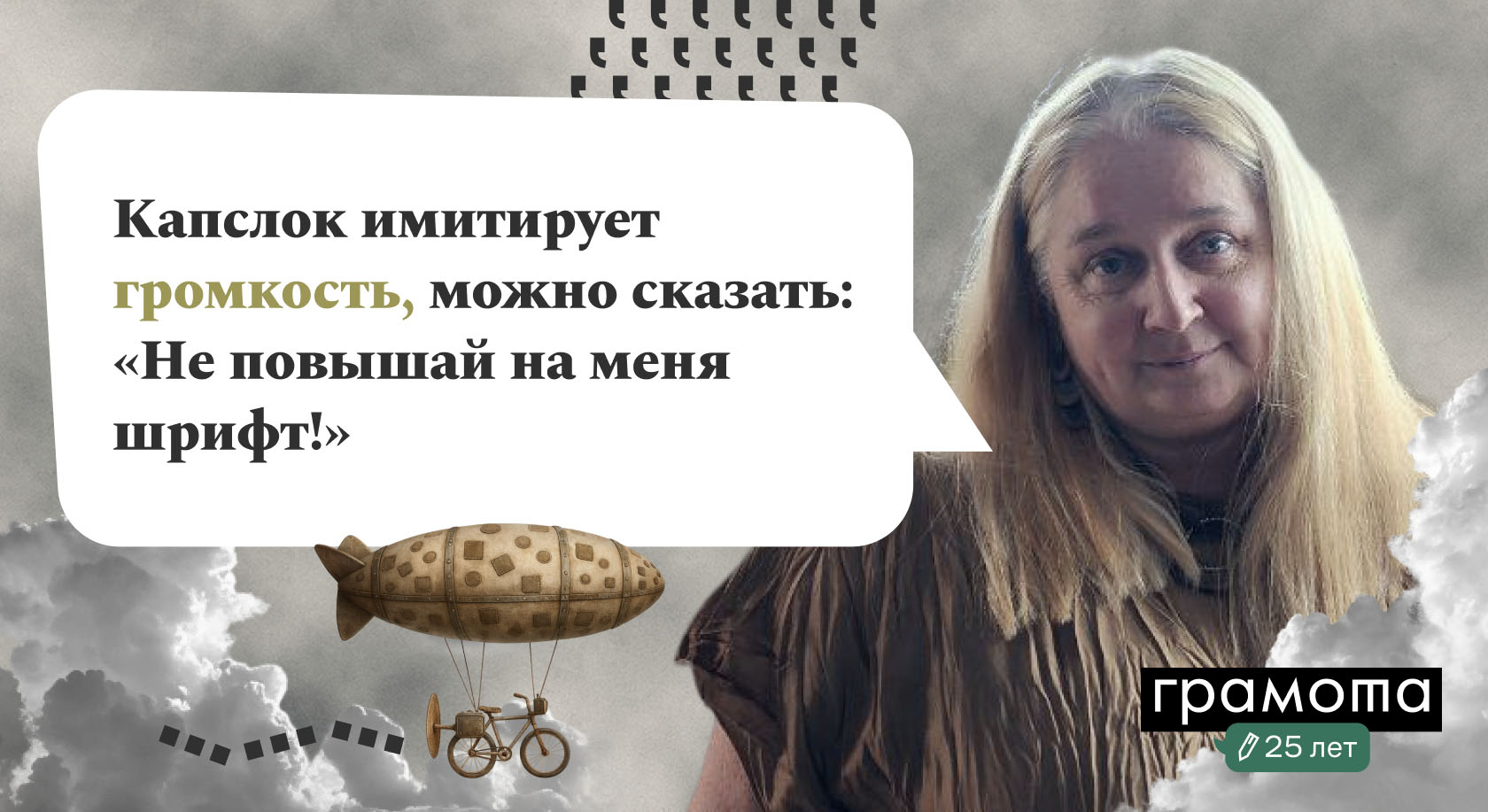
Язык всё время меняется, и за 25 лет в нем изменилось многое: звучание слов, произношение звуков, интонация. Появились новые словообразовательные модели, некоторые новые синтаксические конструкции стали уже совершенно привычными. К примеру, раньше конструкция можно, пожалуйста... была абсолютно недопустима, а теперь молодежь даже не понимает, в чем здесь проблема.
Грамота уже 25 лет наблюдает за жизнью русского языка. По случаю юбилея мы расспросили известных российских лингвистов, как, на их взгляд, чувствует себя наш язык, какие обстоятельства на него влияют и какие изменения ждут его в будущем.
Под влиянием английского языка изменился синтаксис слова пожалуйста, которое раньше могло сочетаться по-русски только с повелительным наклонением: Пожалуйста, повторите! А теперь мы часто слышим Можно, пожалуйста, соль? Могу я, пожалуйста, сдать работу завтра?
Именно в эти годы возник и распространился феномен устно-письменной речи, которую мы видим в социальных сетях и в переписке. Технически она письменная, но заимствует многие черты устной речи и во многом ее имитирует.
Мы часто пишем без знаков препинания и больших букв, и не потому, что нам лень перейти в другой регистр и поставить точку, а потому что устная речь — это сплошной поток. И вот этот речевой поток мы имитируем: «я тебе пишу, но как будто бы с тобой говорю спонтанно».
Капслок используется, чтобы имитировать громкость. Иногда люди даже говорят «не повышай на меня шрифт», имея в виду «не повышай на меня голос, не говори громко». В устной речи мы можем сказать что-то не очень приятное с улыбкой, выражением лица показать: «не обижайся» или «это шутка». Когда мы пытаемся передать выражение лица или интонацию в устно-письменной речи, мы делаем это с помощью смайликов.
Прямо на наших глазах случилось нечто новое и важное в культурном отношении, чего не было уже много веков: изменился характер бытования языка.
Но наиболее показательное явление, связанное с изменением так называемой языковой картины мира, — это изменение слов. И тут важно понимать, что те 25 лет, которые существует Грамота, — это не единый период. В нулевые годы продолжались те глобальные процессы, которые шли в 90-е и касались изменения системы ценностей, воплощенной в языке. Я приведу три примера, хотя их много.
Первое, например: изменилось отношение к индивидуальному успеху и индивидуальным достижениям. Появилось словосочетание успешный человек, которого раньше не было — можно было говорить только об успешной работе, успешных переговорах и т. п. Слова амбициозный, карьера и даже карьерист, которые до этого в нашей культуре были негативно окрашены, потеряли эту негативную окраску.
Весь пласт лексики, связанный с индивидуальными достижениями, поменял оценку.
По-русски не было слова, в котором уверенность в себе характеризовалась бы положительно или нейтрально. Самоуверенный, самонадеянный — эти слова описывали что-то плохое. Была даже такая поговорка: на грош амуниции, на рубль амбиции — то есть человек претендует на что-то, на что он не имеет права. В 90-е годы появились объявления типа нужны амбициозные карьеристы. Это было новое — утверждение того, что раньше было ценностями низшего порядка: благополучие, комфорт, амбиции.
Второй пример. Изменилось отношение к норме. Появились слова адекватный и вменяемый применительно к человеку. То есть человек не предается каким-то крайностям, это хорошо. Это была новая идея, своего рода такая реабилитация нормальности. И третий пример на эту же тему. Радость повседневности, которая в русском языке не была в центре внимания, вышла на первый план. Появилось много слов на эту тему: не только комфорт, то есть удобство, но еще креатив. Слово креативный ворвалось в русский язык; оно многих раздражает, но тем не менее оно было востребовано.
Не хватало такой идеи, что в повседневной жизни может быть красота без претензий на величие.
А дальше, начиная с десятых годов, вернулся дискурс величия, поэтому теперь говорят о великих целях. Что-то развивалось дальше. Скажем, появилось слово нормис, которое говорит о завершении цикла: нормальность для молодежи снова стала чем-то скучным и неинтересным.
 Всё о чувствах и отношениях: почему язык психологии стал так популяренЛингвисты, социологи и психологи обсуждают вред и пользу психотерапевтической волны в русском языкеПоявились и новые области, где возникает новая лексика. Например, вся «домашняя» психология: токсичные отношения, токсичный человек, границы, проработать травму, газлайтинг — очень модные слова, которые закрепились, люди их полюбили. Другой пример — новая этика и связанная с ней лексика: этичная еда, осознанность, осознанное родительство. Сюда же относятся кенселинг и отмена, когда человека отменяют, потому что он что-то сделал неправильно. Так у слова отменить появилось новое значение.
Всё о чувствах и отношениях: почему язык психологии стал так популяренЛингвисты, социологи и психологи обсуждают вред и пользу психотерапевтической волны в русском языкеПоявились и новые области, где возникает новая лексика. Например, вся «домашняя» психология: токсичные отношения, токсичный человек, границы, проработать травму, газлайтинг — очень модные слова, которые закрепились, люди их полюбили. Другой пример — новая этика и связанная с ней лексика: этичная еда, осознанность, осознанное родительство. Сюда же относятся кенселинг и отмена, когда человека отменяют, потому что он что-то сделал неправильно. Так у слова отменить появилось новое значение.
При этом не просто появляются отдельные новые слова или идеи, а снова меняется бытование языка. В 90-е годы все как-то встряхнулось, перемешалось: язык стал более однородным, в телевизоре можно было услышать то же, что на кухне. Сейчас опять происходит атомизация: разные языки сосуществуют. Те, кто постарше, как я, хорошо помнят этот способ существования языка в позднесоветское время. Сейчас он отчасти возвращается: язык условно «московских кухонь», людей определенного стиля общения, не имеет общего с языком телевизора.
Язык молодежи оторвался от языка взрослых. Он обособился настолько, что часто вообще взрослые не могут понять, что говорят молодые.
Это значит, что очень трудно воздействовать на молодежь: она говорит на другом языке и через язык ускользает. И не надо думать, что это просто мода, просто свои особенные словечки. Нет, это другая картина мира. Вот вроде глупая песенка: «Сигма бой, сигма бой», но на самом деле здесь проявляется другое представление о ценностях. Альфа-самец как часть культа власти уже не интересен. А сигма-бой — это культ независимости. И ребенок, который поет эту песенку, об этом, конечно, не задумывается. Но он получает вместе с этими словами представление о том, как прекрасно быть независимым.
 «Слова года» полгода спустя: кто продолжает забегНасколько точным был прошлогодний выбор Грамоты и как чувствуют себя «наши» неологизмы сегодняБессмысленно говорить о том, что одно конкретное слово приживется, а другое не приживется. Но атомизация будет усиливаться. Причем это сложный процесс. С одной стороны, ослабевают географические противопоставления, благодаря интернету язык делается единым (особенно для молодежи), и это единство включает всех людей, которые говорят по-русски. С другой, в поколенческом и культурном смысле люди живут в своих пузырях и даже не очень знают, что происходит в других изводах языка. И эта центробежная тенденция будет нарастать.
«Слова года» полгода спустя: кто продолжает забегНасколько точным был прошлогодний выбор Грамоты и как чувствуют себя «наши» неологизмы сегодняБессмысленно говорить о том, что одно конкретное слово приживется, а другое не приживется. Но атомизация будет усиливаться. Причем это сложный процесс. С одной стороны, ослабевают географические противопоставления, благодаря интернету язык делается единым (особенно для молодежи), и это единство включает всех людей, которые говорят по-русски. С другой, в поколенческом и культурном смысле люди живут в своих пузырях и даже не очень знают, что происходит в других изводах языка. И эта центробежная тенденция будет нарастать.
Еще на
эту тему
Максим Кронгауз: «Разграничить язык интернета и язык вне интернета стало невозможно»
Как меняется русский язык? Лингвисты по просьбе Грамоты рассказывают о главных трендах
Думать вредно? Чем наивная дурочка лучше продуманной твари
Лингвист Ирина Левонтина описала новое значение старого прилагательного
Что в эмодзи тебе моем: как смайлы помогают и мешают нам общаться
Улыбка в рабочей переписке может оскорбить, а пицца в описании профиля — напугать
























