Вариантность в языке — это нормально
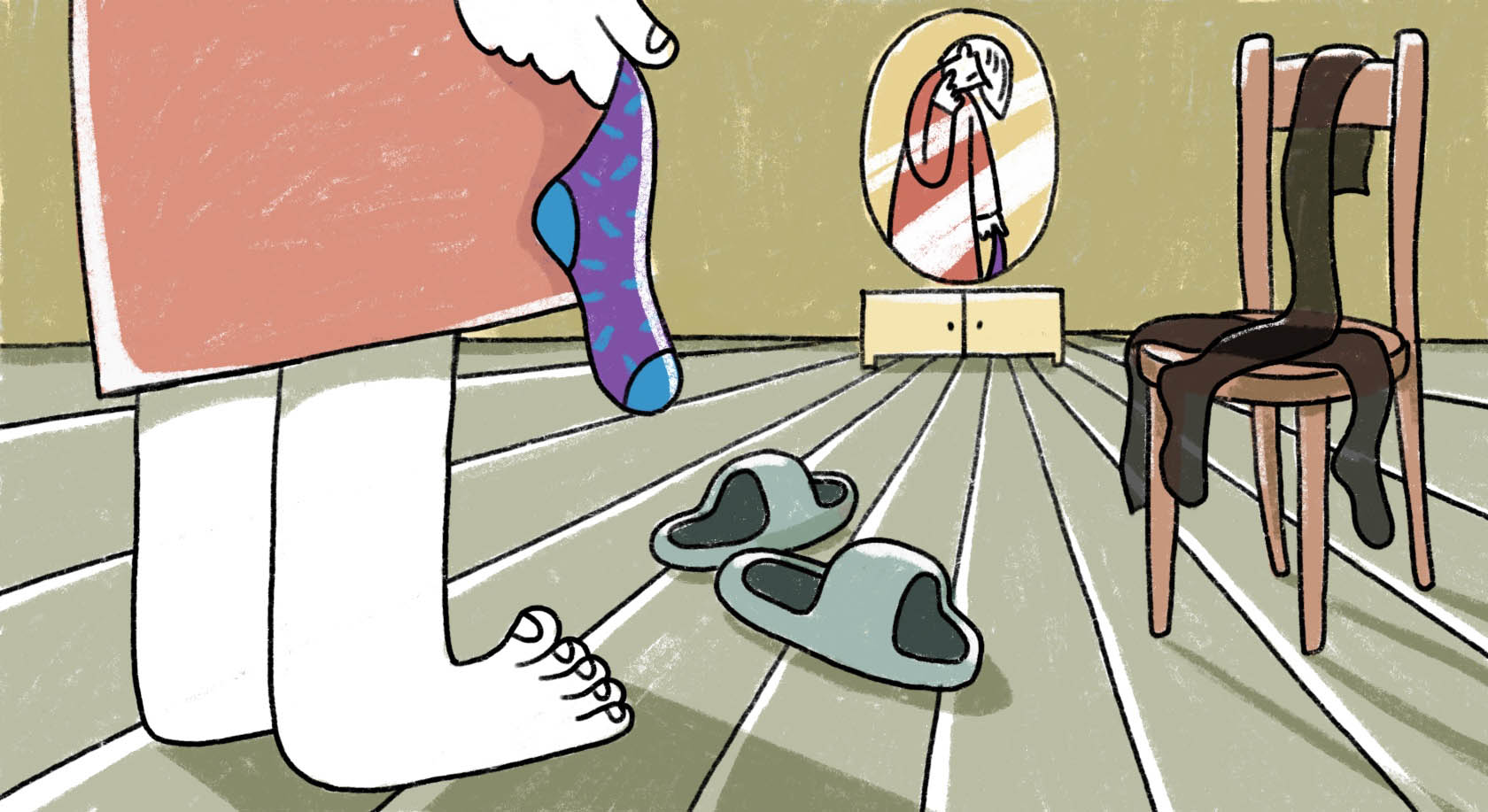
С наличием в языке вариантов связано сразу несколько распространенных заблуждений. Считается, что в литературном языке не должно быть двух правильных вариантов одного и того же слова; наличие вариантов в словарях свидетельствует только о том, что лингвисты не могут договориться между собой; варианты в словарях — примета нашего времени, в изданиях прежних лет варианты не допускались. На самом деле вариантность — непременный атрибут литературного языка, а фиксация вариантов в словарях — неотъемлемая часть работы лингвистов-кодификаторов.
Скажите, как правильнее!
Бо́льшая часть вопросов, поступающих в «Справочное бюро» Грамоты, связана с понятием «языковая норма»: спрашивающих интересует правильное, нормативное написание, произношение, употребление тех или иных языковых единиц. Конечно, во многих случаях ответ на вопрос «Как правильно?» будет однозначным.
Афера или афёра, жа́люзи или жалюзи́, под городом Кировом или под городом Кировым, Московский государственный университет или Московский Государственный Университет — на все эти вопросы, разумеется, будет дан ответ о корректности только одного варианта (соответственно: афера, жалюзи́, под городом Кировом, Московский государственный университет).
В то же время среди вопросов, с которыми носители языка обращаются к лингвистам, немало и таких, на которые невозможно дать ответ «Правильно только...».
В цехе или в цеху, дочерями или дочерьми, достичь или достигнуть — в этих случаях говорят о равноправности вариантов. Носитель языка вправе выбрать любой из них — тот, который в большей степени соответствует его языковому вкусу.
Надо признать, что формулировку ответа «Это равноправные варианты. Выбираете Вы» посетители портала не любят. Пользователи ожидают однозначного ответа на вопрос: «Как правильно?» и, получив ответ о допустимости нескольких вариантов, задают повторный вопрос: «Но все же — скажите, как правильнее». А в ряде случаев такая формулировка воспринимается читателями Грамоты как нежелание прямо отвечать на поставленный вопрос.
О болезненной реакции носителей языка на существование вариантов говорят и коллеги-лингвисты. Так, филолог, журналист Ксения Туркова1 в своей колонке в «Московских новостях» писала: «Я заметила, что одним из самых болезненных вопросов языкознания для тех, кто не имеет к лингвистике отношения, является вариантность языковых средств. Сколько раз я слышала от коллег и знакомых: „Ну у тебя как всегда: возможны оба варианта. Значит, просто не знаешь ничего! Должна быть жесткая норма“».
«Должна быть жесткая норма» — этот призыв к лингвистам избавиться от вариантности как от некоей «болезни» языка звучит постоянно, и с неменьшим упорством лингвисты повторяют, что вариантность — это не болезнь языка, а единственно возможный способ его развития.
«Широкая общественность, не знакомая с закономерностями развития языка и его сложной внутренней структурой, часто требует «искоренения» вариантности, показа в словарях лишь одного способа выражения определенного содержания. Языковедов призывают устранить колебания, стандартизировать язык, так сказать, декретом сверху», — отмечал Кирилл Горбачевич2.
На самом деле наличие в языке вариантов обусловлено двумя важнейшими языковыми тенденциями. С одной стороны, это стремление к изменению и обновлению (а любой живой язык со временем изменяется; неизменными остаются только мертвые языки), с другой стороны — необходимость охранять старые устои. Это именно те две тенденции, о которых писал Корней Чуковский в своей знаменитой книге «Живой как жизнь»: «Каждый живой язык, если он и вправду живой, вечно движется, вечно растет. Но одновременно с этим в жизни языка чрезвычайно могущественна и другая тенденция прямо противоположного свойства, столь же важная, столь же полезная. Она заключается в упорном и решительном сопротивлении новшествам, в создании всевозможных плотин и барьеров, которые сильно препятствуют слишком быстрому и беспорядочному обновлению речи».
Итак, с одной стороны — вечное стремление к обновлению, с другой — оборонительная реакция на все новое, необычное. Как найти компромисс между этими тенденциями?
Такой компромисс найден: это и есть вариантность. Она обеспечивает плавный переход от старой нормы к новой.
Возьмем в качестве примера существительное лыжня. В наши дни мало найдется носителей языка, сомневающихся, как правильно произносить это слово. Между тем в «Толковом словаре живого великорусского языка» В. И. Даля это слово зафиксировано с ударением на первом слоге: лы́жня. В «Толковом словаре русского языка» Д. Н. Ушакова (который, напомним, вышел в 1935–1940 годах) даны уже два варианта ударения: лы́жня и лыжня́. Словари современного русского языка отмечают вариант лы́жня как нерекомендуемый, сегодня единственно верным признаётся ударение на последнем слоге. Таким образом, наличие на определенном этапе развития языка вариантов лы́жня и лыжня́ обеспечило плавный переход от старой нормы лы́жня к новой норме лыжня́. И это естественно: слово не может в один миг изменить ударение, родовую принадлежность или написание, этот процесс неизбежно занимает годы, десятилетия или даже столетия, в течение которых в языке существуют варианты.
Слово «столетия» отнюдь не преувеличение. В уже упомянутой нами книге Кирилл Горбачевич приводит такие примеры: вариантность тра́пеза — трапе́за зафиксирована еще в XV веке, колебание усугу́бить — усугуби́ть отмечено в XVIII веке. Эти варианты дожили и до наших дней: в 4-м издании «Русского орфографического словаря» РАН (М., 2012) дано: тра́пе́за, усугу́би́ть(ся). Конечно, в современном русском языке эти варианты неравноправны: предпочтение (в орфоэпических словарях, в словарях трудностей) отдается ударению тра́пеза, усугуби́ть, но тот факт, что словари все еще признают существование в языке вариантов трапе́за и усугу́бить (пусть и уходящих на периферию), свидетельствует о том, что варьирование слов далеко не всегда ограничивается жизнью одного поколения.
Но рано или поздно вариантность в пределах той или иной языковой единицы все равно заканчивается.
Можно предположить, что через какое-то время вариант трапе́за исчезнет из словарей, а еще позже это, вполне вероятно, произойдет и с ударением усугу́бить.
«Варианты слова, — отмечает Кирилл Горбачевич, — возникают и сосуществуют, конкурируя друг с другом, лишь в определенный исторический период. После этого они либо расходятся в лексических значениях, приобретая статус самостоятельных слов (острота́ — остро́та, крестный — крёстный), либо теряют способность к свободному варьированию в связи с ограничением в сочетаемости (наострить нож — навострить лыжи, ноль внимания — свести к нулю), либо (что бывает чаще всего) продуктивный вариант полностью вытесняет своего конкурента (дальный → дальний, у́дить → уди́ть, по́езды → поезда́)».
Таким образом, наличие в языке вариантов в цехе и в цеху, дочерями и дочерьми, достичь и достигнуть не является «болезнью» языка, а их фиксация в словарях — не следствие безволия лексикографа, не решающегося выбрать тот или иной вариант. Это означает, что сегодня между этими вариантами идет конкуренция, обеспечивающая плавный переход от одной нормы к другой. Зная, что в современном литературном языке существует тенденция к сокращению числа слов, принимающих окончание -у в предложном падеже3, мы можем предположить, что через какое-то время ответ на вопрос: «Правильно в цехе или в цеху?» — будет иным.
На полпути к новой норме
Очевидно, что состояние равноправности вариантов — это своего рода середина пути от старой нормы к новой: прежний вариант еще не ушел из языка, еще не стал устаревающим или устаревшим, а новый вариант уже получил «прописку» в языке и не воспринимается как нарушение нормы. Если варианты уже миновали эту стадию, они противопоставляются как актуальный — устаревший (например, старый вариант де́ньгами уступил место ударению деньга́ми, но пока еще окончательно не вытеснен из языка). Если же какой-либо вариант закономерно возник в результате исторического развития языка и употребляется в литературной речи, но при этом еще не «дорос» до своего конкурента, он фиксируется в словарях на правах допустимого, при этом отмечается, что строгой литературной норме пока соответствует прежний вариант. Именно таково в наши дни соотношение кофе м. р. и кофе ср. р.: сейчас мужской род — строгая литературная норма, средний род — допустимое употребление. Наконец, варианты могут противопоставляться как нормативный — ненормативный, если новый вариант нарушает некий культурный запрет (катало́г — ката́лог).
Одна из самых интересных стадий на этом пути — момент «совершеннолетия» нового варианта. В какой момент запрещавшееся прежде употребление становится допустимым?
Как языковеды принимают решение о включении в словарь того или иного варианта на правах разрешаемого? Это тема отдельной статьи и отдельного разговора. Скажем только, что одним из главных факторов, влияющих на признание варианта допустимым, является его соответствие законам языка.
Например, лингвистам известно о наличии в языке такого явления, как перемещение ударения у глаголов на -ить в личных формах (этот процесс начался в конце XVIII века). Какие-то глаголы уже прошли этот путь, например: грузи́шь → гру́зишь, вари́т → ва́рит, плати́т → пла́тит), какие-то — только проходят его; к последним относится глагол включить. Знание этой тенденции дало авторам вышедшего в 2012 году «Большого орфоэпического словаря русского языка» М. Л. Каленчук, Л. Л. Касаткину, Р. Ф. Касаткиной основания зафиксировать вариант вклю́чит (запрещавшийся ранее) в качестве допустимого (при строгой литературной норме включи́т). Нет сомнений, что этот вариант, уже прошедший путь от запрещаемого до допустимого, продолжит движение в сторону единственно возможного и рано или поздно вытеснит старое ударение включи́т, подобно тому как некогда новый вариант пла́тит вытеснил старое ударение плати́т.
В то же время не менее важным фактором, влияющим на признание нормативности того или иного варианта, является его общественное одобрение. Именно поэтому ударение зво́нит (а с глаголом звонить происходит точно такой же процесс, что и со словами грузить, платить, включить) пока не отмечено в словарях в качестве допустимого: образованная часть общества относится к этому варианту резко негативно.
Хотя ударение вклю́чит не вызывает столь резкого протеста, как зво́нит, этот вариант тоже не является социально одобряемым, поэтому фиксация его в «Большом орфоэпическом словаре» вызвала немало споров.
Здесь необходимо отметить, что разговор о борьбе старого и нового легко вести, приводя примеры вариантов, когда-то прошедших путь от недопустимых к единственно возможным (как, например, ударение лыжня́ или пла́тит): мы не застали этого перехода, он не вызывает у нас отрицательных эмоций. Но ведь вариантность, как нам теперь известно, — естественное свойство литературного языка.
Борьба вариантов продолжается и в наши дни; выходят словари русского литературного языка, лингвистам-нормализаторам постоянно приходится принимать зачастую непопулярные решения о включении в словари тех или иных новых вариантов. Даже понимая, что изменения в языке неизбежны, мы нередко отказываемся принимать тот факт, что они происходят на наших глазах, и негативная реакция некоторой части общества на известие о допустимости варианта вклю́чит — тому пример. Между тем когда-то столь же бурные эмоции вполне могло вызывать новое ударение пла́тит — а через несколько столетий наши потомки, возможно, удивленно будут восклицать: «Неужели в языке когда-то была форма включи́т?» — подобно тому как нам кажется диковинным ударение плати́т.
Вседозволенность и деградация?
В заключение скажем о еще одном заблуждении, связанном с вариантностью и работой лингвистов-кодификаторов. Некоторые носители языка убеждены, что фиксация вариантов в словарях — примета именно нашего времени, следствие «вседозволенности» и «деградации» языка, в противоположность прежним «строгим временам», когда варианты в словарях не допускались (даже если они реально существовали в языке), а многие из ныне разрешаемых вариантов строго запрещались.
Конечно, произошедшая в России за последние несколько десятилетий демократизация языка сказалась и в смягчении нормативных оценок. Кое-что из того, что ранее строго осуждалось как «неправильное», получило характеристику «не рекомендуется», а некоторые не рекомендуемые прежде варианты вошли в состав литературного языка.
Можно назвать несколько вариантов, которые стали допустимыми, но раздражают многих носителей языка. Это варианты нет носок (прежде разрешалось только носков), брелки (прежде — только брелоки), а также уже упомянутое ударение вклю́чит. Но ошибкой было бы думать, что в словарях, выходивших в советскую эпоху, варианты не показывались вовсе или — в случае их фиксации — выбор всегда делался только в пользу одного варианта, а все разрешенные ныне «вольности» были строго запрещены.
Да, среди словарей ударений, словарей трудностей были (и есть) особые издания, адресованные работникам эфира, где в подавляющем большинстве случаев дается только один вариант (чтобы исключить ситуации, когда один диктор говорит тво́рог, а другой следом — творо́г).
Но и в советскую эпоху выходили словари, стремившиеся к более полному описанию вариантов, существующих в языке.
Например, словарь-справочник «Русское литературное произношение и ударение» под редакцией Р. И. Аванесова и С. И. Ожегова (М., 1959) фиксирует: ина́че и и́наче, кру́жишься и доп. кружи́шься, творо́г и доп. тво́рог. Более того, в этом словаре зафиксирован (с пометой разг.) и такой одиозный вариант, как до́говор (а пометой разг. в этом словаре сопровождались «варианты, которые широко распространены в живой, обиходной разговорной речи и отвечают тенденциям развития языка»).
Таким образом, распространенное суждение о том, что этот вариант — нововведение последних лет (а про до́говор вспоминают почти каждый раз, когда рассуждают о «деградации» языка в наши дни и деструктивной работе лингвистов-нормализаторов) не соответствует действительности: о соответствии этого ударения тенденциям развития языка лексикографы говорили более полувека назад.
Итак, наличие вариантов — непременный атрибут литературного языка, поскольку язык постоянно меняется и в то же время стремится сохранить свои устои. По словам Кирилла Горбачевича, «стадия варьирования и постепенная замена конкурирующих способов выражения обеспечивают менее ощутимый и не столь болезненный сдвиг нормы, в немалой степени способствуя существованию известного парадокса: язык изменяется, оставаясь самим собой». Фиксация вариантов в словарях и оценка их в конкретный исторический период как равноправных, допустимых или ненормативных — неотъемлемая часть работы лингвистов-нормализаторов.
Еще на
эту тему
Как разное понимание языковой нормы приводит к коммуникативным неудачам
Выступление научного консультанта Грамоты Владимира Пахомова на конференции «Медиатекст: векторы развития и перспективы изучения»
Мария Каленчук: «Нормативные рекомендации должны опираться на речевую практику образованных людей»
Что волнует русистов сегодня? Опрос Грамоты
Варианты произношения: благо или зло?
Лекция доктора филологических наук Марии Леонидовны Каленчук

























