В научном сообществе исследование обсценных слов находится под запретом
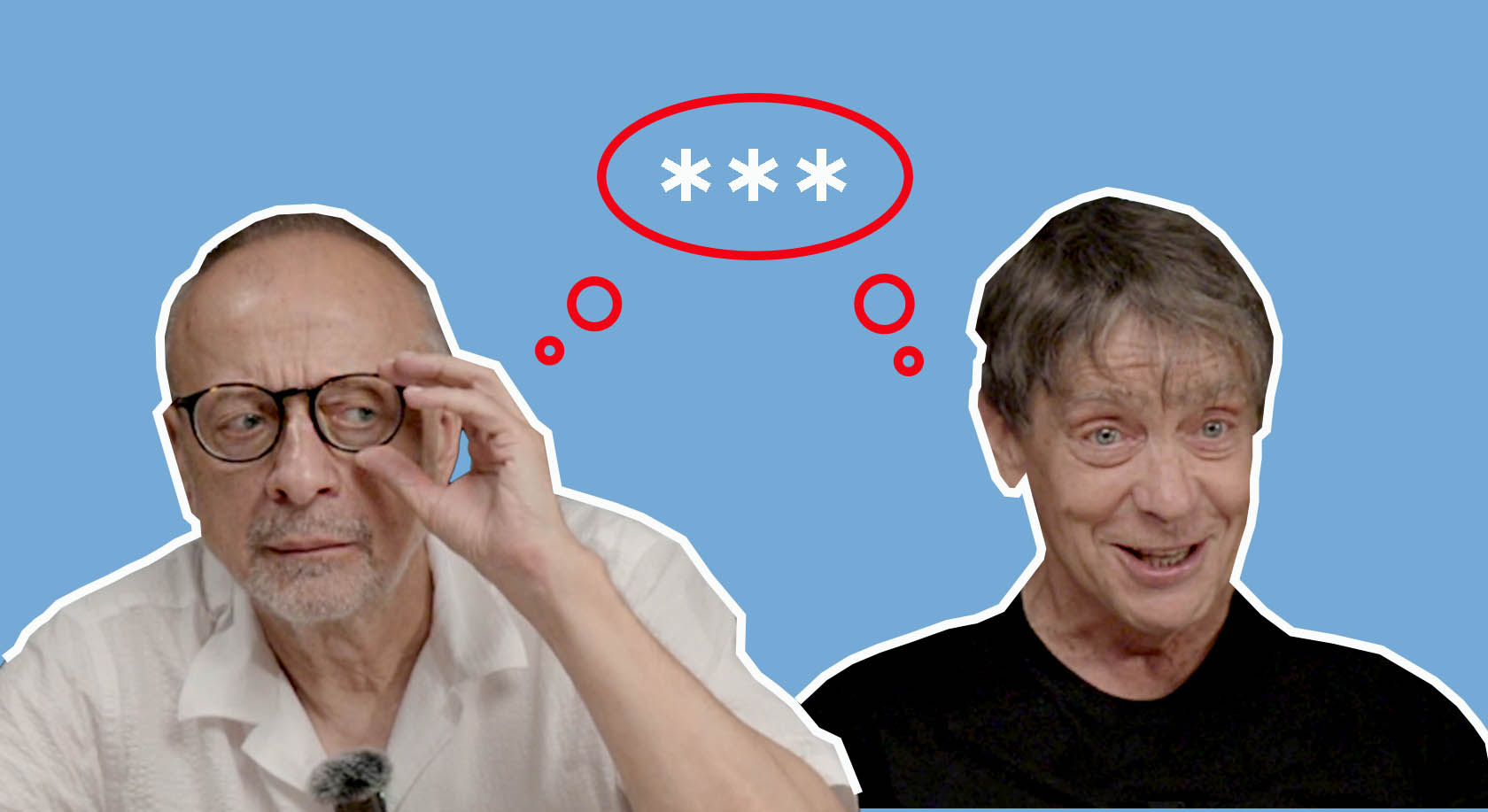
Ведущий подкаста «Сложное предложение» лингвист Игорь Исаев пригласил авторов книги «Запретные слова», докторов филологических наук Анатолия Баранова и Дмитрия Добровольского поговорить о русском мате: его изучении, его уместности и его табуированности. Грамота изложила близко к тексту фрагменты этого разговора.
Игорь Исаев: Зачем было писать эту книгу?
Дмитрий Добровольский: Во-первых, забавно, во-вторых, эта тема не истоптана. Вроде бы язык уже так хорошо описан, особенно такой великий и могучий, как наш, — описан лучше не бывает. И вдруг в языке обнаруживается тема, которая всем известна, но научно про это мало что сказано. И конечно, если ты профессионально занимаешься языком и пытаешься что-то новое в нем выкопать, то это же золотая жила. Бери и копай.
Нам интересно смотреть, как развивается язык: двадцать лет назад так никто не говорил, а сейчас так говорят, и хочется это зафиксировать. Потому что одна из функций лингвистов — это описание. Документация: описать язык, как он есть сейчас. Когда мы стали собирать (уже очень давно, больше тридцати лет назад) материал по русской фразеологии, то увидели, что попадается много выражений с бранными словами. Руки чесались что-то с этим сделать.
Книга вышла без купюр, без изъятий, без звездочек. Как вы решали вопрос с законодательными ограничениями?
Анатолий Баранов: Разумеется, на книге стоит маркировка 18+. Но это было наше условие, когда мы обговаривали это с издателем: мы даем как есть, потому что заниматься в такой книге постановкой звездочек — это безумие. Как читать-то? Некоторые формы новые, известны не всем. Есть такие формы, которые люди нашего поколения, которые придерживаются старшей нормы обсценной лексики, не угадали бы никак.
Мы показываем на примере полного собрания сочинений Пушкина, что издатели действуют непоследовательно и заменяют графемы в обсценных словах и целиком обсценные слова то тире, то отточиями, то звездочками. И гипотеза о том, что каждой графеме соответствует тире, звездочка или отточие, не работает.
У нас сейчас нет запрета на использование обсценной лексики в текстах художественной литературы.
Есть Пелевин, Сорокин, другие современные авторы, которые используют обсценную лексику. На одной из книжек Сорокина было написано: «В книге имеется непристойная Б». Вот и на нашей можно было бы так написать.
Что нового в научном отношении мы здесь видим?
А. Б.: Здесь очень много нового научного, хотя мы старались представить научные сведения в легкой или относительно легкой форме. Правда, некоторые главы, в частности глава «Дискурсивные практики использования мата», заставляют читателя все-таки напрячься, если он захочет не только посмотреть примеры, но и понять, что обсценная лексика используется в таких режимах, в которых обычная лексика не используется.
Например, есть фоновый режим использования мата, а есть замещающий режим, когда вместо слов литературного русского языка используются соответствующие обсценные слова.
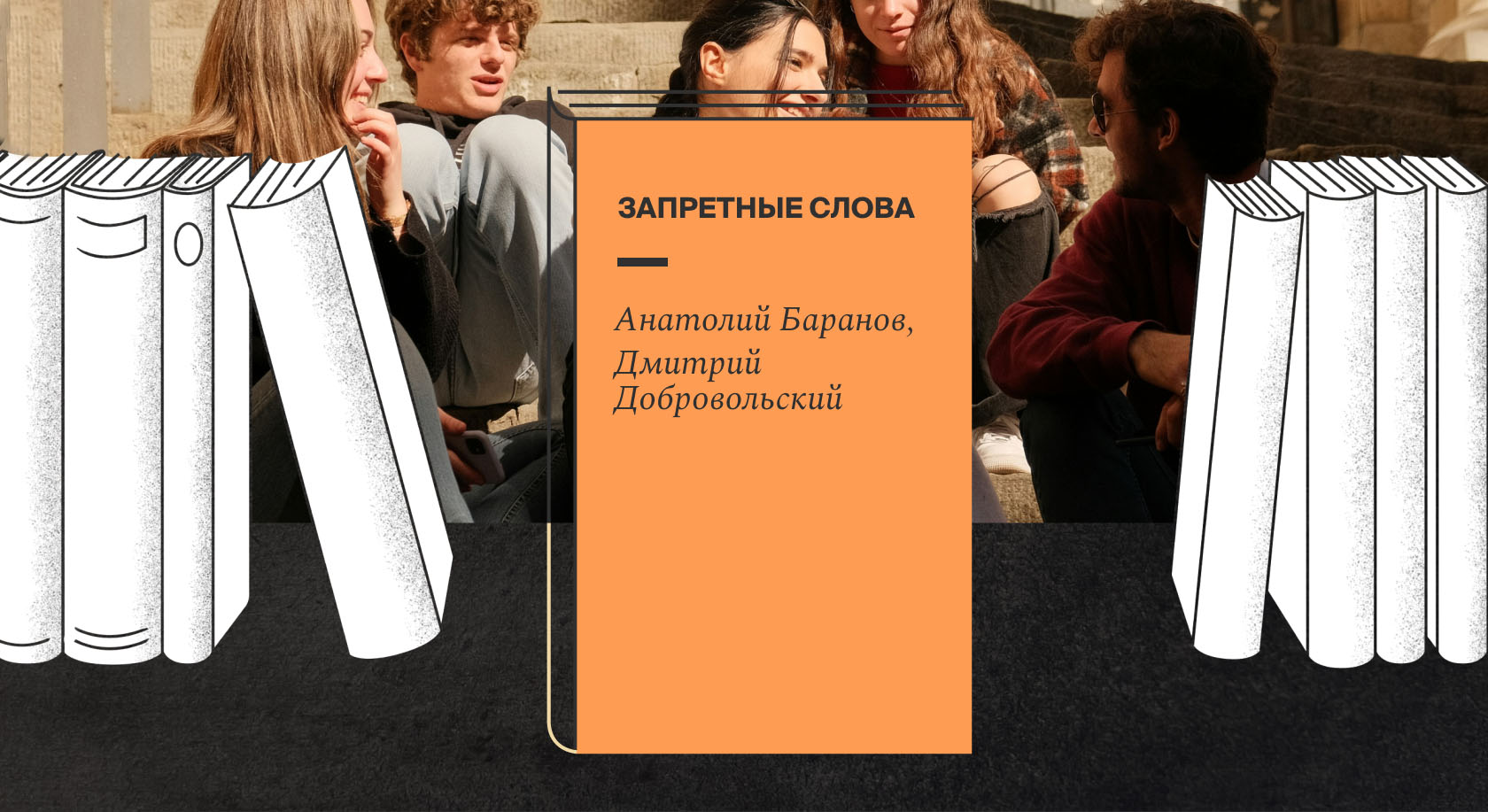 Запретные слова: что думают лингвисты о нецензурной лексике как части русского языкаВ издательстве МИФ вышла научно-популярная книга двух докторов филологических наукНо есть много нового в самой этой лексике, есть грамматические изменения. Возьмем инфинитив главного обсценного глагола — эту форму мы отлично все знаем. Оказывается, есть употребление, которое для нас было абсолютным открытием: использование этого глагола в качестве междометия. Когда что-то случается, человек в изумлении это наблюдает и реагирует таким однословным восклицанием.
Запретные слова: что думают лингвисты о нецензурной лексике как части русского языкаВ издательстве МИФ вышла научно-популярная книга двух докторов филологических наукНо есть много нового в самой этой лексике, есть грамматические изменения. Возьмем инфинитив главного обсценного глагола — эту форму мы отлично все знаем. Оказывается, есть употребление, которое для нас было абсолютным открытием: использование этого глагола в качестве междометия. Когда что-то случается, человек в изумлении это наблюдает и реагирует таким однословным восклицанием.
В чем сложность изучения этой лексики?
А. Б.: Мы ее смотрели по корпусам, но корпуса не отражают реальность, потому что запрет на обсценную лексику в советское время был абсолютным, она не могла появиться ни в какой литературе. В период перестройки начались процессы демократизации, которые затронули и язык. Но они не достигли сферы изучения языка, потому что в научном сообществе исследование обсценных слов до сих пор находится под запретом. Эта сфера, к сожалению, обречена на маргинальный статус.
Даже если снять все запреты, научное сообщество всё равно будет относиться к изучению этой сферы как к какому-то грязному, непристойному, неприятному занятию.
В «Вопросах языкознания» никто статьи об этом не будет публиковать: побоятся излишнего внимания, да и личные ценностные ориентации, несомненно, будут играть роль при принятии решения.
При этом про происхождение мата вы не пишете.
А. Б.: Мы не специалисты по истории языка. Мы рассматриваем некоторые широко распространенные гипотезы происхождения мата. Одна из них, самая, как мне кажется, важная гипотеза, состоит в том, что слова с соответствующими корнями были распространены в славянских языках. Даже сейчас они представлены в хорватском, например, и в польском языке, это общеславянский лексический фонд. Но дело в том, что, когда на Русь пришло христианство, оно стало бороться с этими словами как проявлением языческих культов. Есть блестящая статья Бориса Андреевича Успенского о происхождении мата. И мы поэтому, собственно, ничего об этом не стали писать: там всё сказано.
Почему вы включили отдельную главу про мат в русской литературе?
Д. Д.: Чтобы показать, что русская литература, начиная с классической литературы XIX века и кончая современной, никогда не чуралась этих слов, и употребляли их по делу, не для связки слов и не как замещающие. Почему в художественной речи это слово используется? Ровно потому, что оно должно обозначить то, что так называется.
У некоторых людей настолько не развита речь, что они просто не могут описать происходящее вокруг, поэтому им всё время приходится вставлять матерные слова. В литературе — в хорошей литературе — мат используется не так. Или если он используется так, то это художественный прием, чтобы показать, как говорят люди определенного уровня образования, как, например, в «Норме» у Сорокина, в знаменитых письмах Мартину Алексеевичу.
А. Б.: Благодаря табуированности мата у писателей есть альтернативный способ выражения смысла и эмоций, которого нет в других языках. В других языках всё-таки fuck — это, скорее всего, «чёрт возьми» или что-то в этом роде. А в русском языке это явно другой стилистический регистр. Этот альтернативный способ хорошие писатели и поэты используют.
Бывает ли мат уместен в устной речи?
Д. Д.: Несмотря на свою любовь к непотребству, мы вообще-то сторонники табу; мы хотим, чтобы был запрет. Иначе мат банализируется и потеряет свою функцию.
Мы вообще-то очень не любим, когда люди на улице идут и матерятся. Когда через каждое слово тебя кто-то *** кроет, зачем это нужно?
Но это не значит, что такие слова не надо изучать. Изучать, описывать, радоваться, что что-то хорошо сказано, как в литературе или в хорошем анекдоте.
В анекдоте использовать такую лексику совершенно нормально. Есть некоторые стандартные ситуации, когда мат может быть уместен. Опять-таки, только в определенном обществе — даже среди ближайших коллег бывает, что кому-то из них будет неприятно это слышать. Люди разные, и мы уважаем их мнение. Есть люди, которые никогда в консерваторию не ходят или в Третьяковскую галерею не любят ходить. Что же их теперь, казнить за то, что они в консерваторию не ходят? Есть люди, которые не хотят слышать мат. При таких людях вообще не надо его использовать, даже в анекдоте. Даже если язык чешется — не надо.
Одна из глав называется «Право мата» — чего от нее ждать?
А. Б.: В уголовных и гражданских делах иногда предметом обсуждения становятся обсценные слова. Эти дела показывают, что игнорирование научным сообществом исследований мата, отсутствие хороших словарей обсценной лексики чрезвычайно мешает лингвистам-экспертам. Не получается адекватно помогать правосудию и писать соответствующие экспертизы.
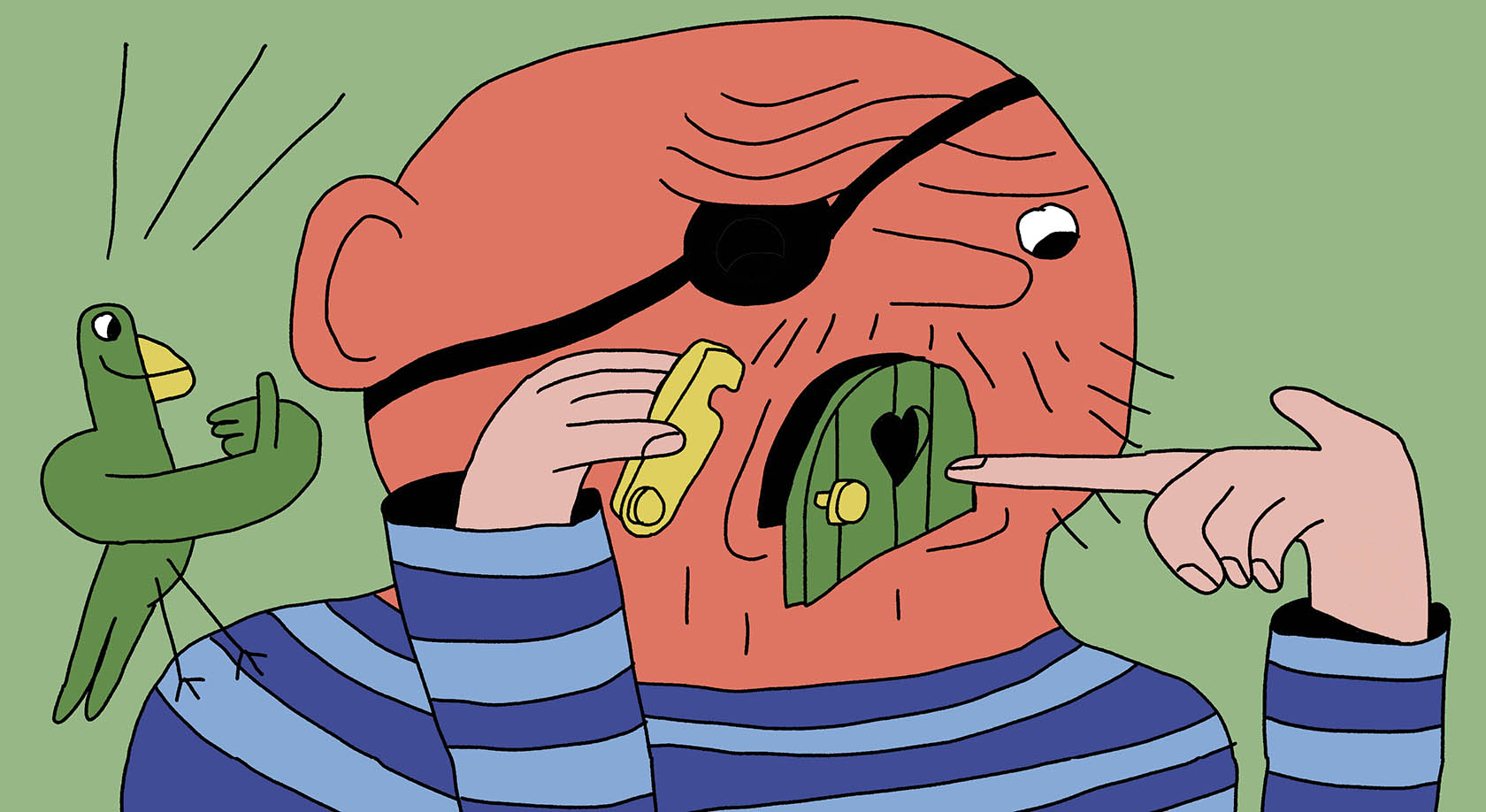 Откуда берутся и какую функцию выполняют бранные словаРугательства — нормальная часть языка, хотя не все они относятся к литературной нормеОтносительно недавно мне встретился некий случай в карауле, когда три офицера напились и то ли один из офицеров убил другого, то ли обстоятельства смерти были иными. В качестве доказательств в деле фигурировали реплики, которые сказал предполагаемый убийца. Ночью он позвонил дежурному по части и сказал (с использованием нецензурного глагола в совершенном виде с суффиксом -ну-): «Я *** лейтенанта». Когда он протрезвел, то написал явку с повинной, а потом отказался от признания.
Откуда берутся и какую функцию выполняют бранные словаРугательства — нормальная часть языка, хотя не все они относятся к литературной нормеОтносительно недавно мне встретился некий случай в карауле, когда три офицера напились и то ли один из офицеров убил другого, то ли обстоятельства смерти были иными. В качестве доказательств в деле фигурировали реплики, которые сказал предполагаемый убийца. Ночью он позвонил дежурному по части и сказал (с использованием нецензурного глагола в совершенном виде с суффиксом -ну-): «Я *** лейтенанта». Когда он протрезвел, то написал явку с повинной, а потом отказался от признания.
Дальше возникает вопрос о том, что значит эта фраза. Значит ли она ‘ударить’ или ‘убить’? В старшей норме у этой формы нет значения ‘убить’, но надо смотреть, как ее употребляют сейчас. В Национальном корпусе ничего нет, в подкорпусе «Социальные сети» тоже нет такого значения. Я стал искать в Google Books, это огромная коллекция текстов, и там нашел два примера, которые вроде бы подтверждают значение ‘убил’.
Вероятно, мы видим движение от «сильно ударить» к «убить», семантически абсолютно естественное.
Судя по всему, в младшей норме оно либо совершается на наших глазах, либо уже произошло. В какой норме говорил этот подсудимый, установить, конечно, не удалось, потому что для этого нужно проводить специальное исследование. Для этого нет времени, и не очень понятно, как его делать: опять сказывается отсутствие инструментария для описания этой сферы лексики.
К вопросу об описании лексики. Как сейчас собирают материал для словарей?
Д. Д.: Материал сейчас собирают с помощью корпуса. Вообще в интернете много информации, ее всю надо использовать. Никогда нельзя идти за своей интуицией, потому что наивно думать, что я знаю всё. Ни про свой родной язык, ни тем более если ты делаешь двуязычный словарь и один из этих языков не твой родной. Ты все равно не знаешь всё. И если даже у тебя есть соавторы, носители языка, они тоже не знают всё.
Любой хороший словарь делается на основе корпуса. Суждения вроде «Нет, мы так не говорим!» надо проверять.
Вы так не говорите, а у вас десять километров проедешь, и там так говорят. Или люди другого социального круга так говорят. Поэтому нужна очень хорошая эмпирическая база.
Есть ли перспектива у бумажных словарей?
Д. Д.: Сейчас бумажные словари не очень востребованы. Но книга как артефакт ценна сама по себе: подержать в руках, ее полистать. У книги есть свой аромат, это никогда не уйдет. Когда есть корпус или словарь в интернете, в открытом доступе, хорошо сделанный, кажется, что это навечно. Но ничто не вечно, всё может пропасть. Нужно, чтобы это где-то было зафиксировано. Известно, что манускрипты XV века, если их правильно хранят в архивах, целы, их можно прочитать сегодня. Пока есть бумажные книжки, у тебя есть надежда, что это останется.
Еще на
эту тему
В Госдуму внесли законопроект о блокировке сетевого контента с нецензурной бранью
Требования к цифровым публикациям хотят сделать такими же жесткими, как к традиционным СМИ
В среднем человек ругается 250 тысяч раз за жизнь — как к этому относиться?
Константин Деревянко, Ярослав Скворцов и Владимир Легойда обсудили ненормативную лексику
День борьбы с ненормативной лексикой: можно ли обойтись без мата?
Обсценная лексика есть во всех языках, но в русском она сильнее табуирована
























