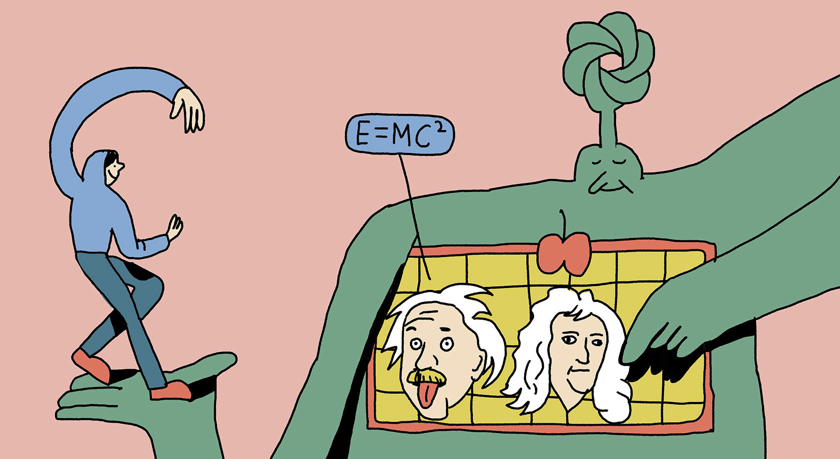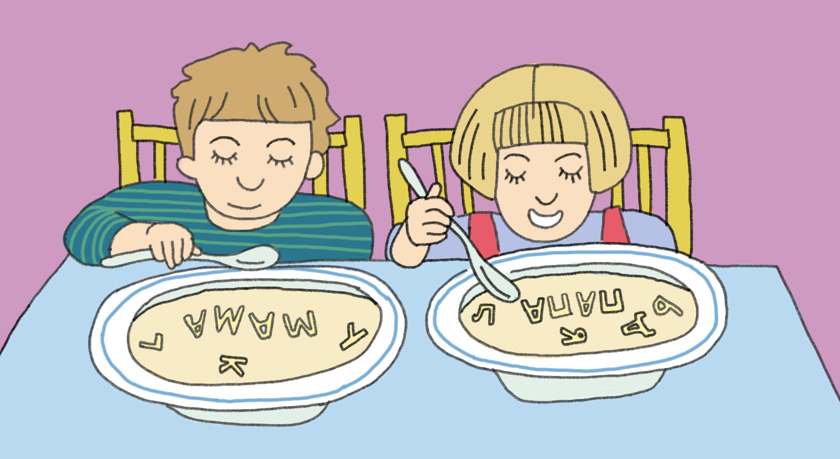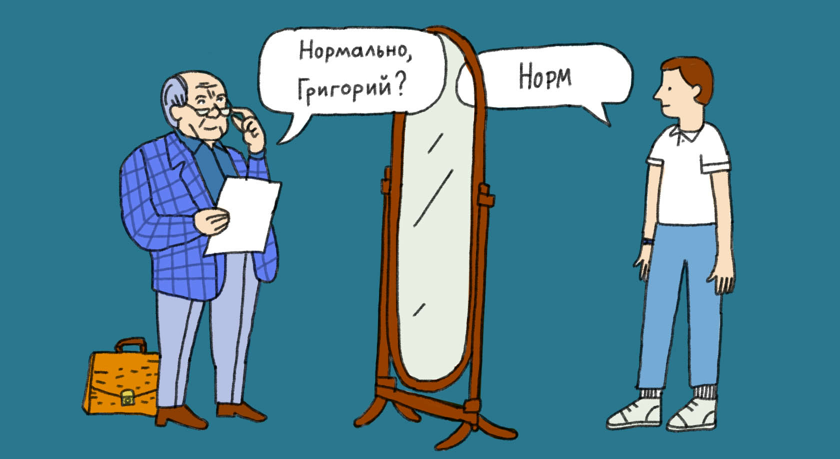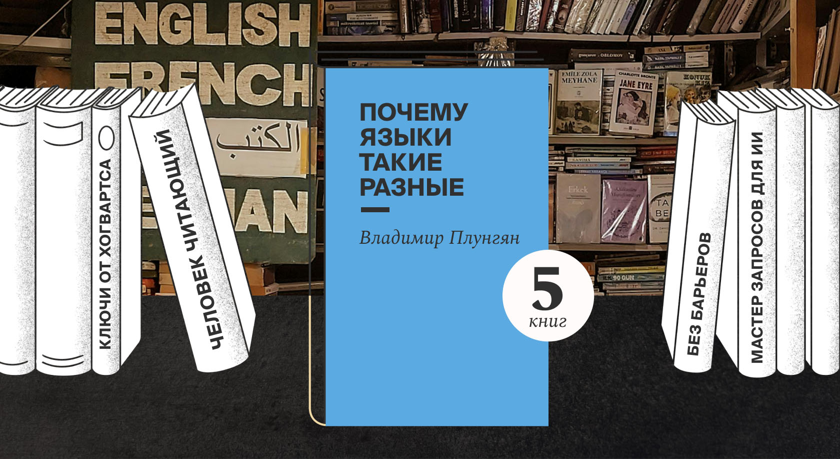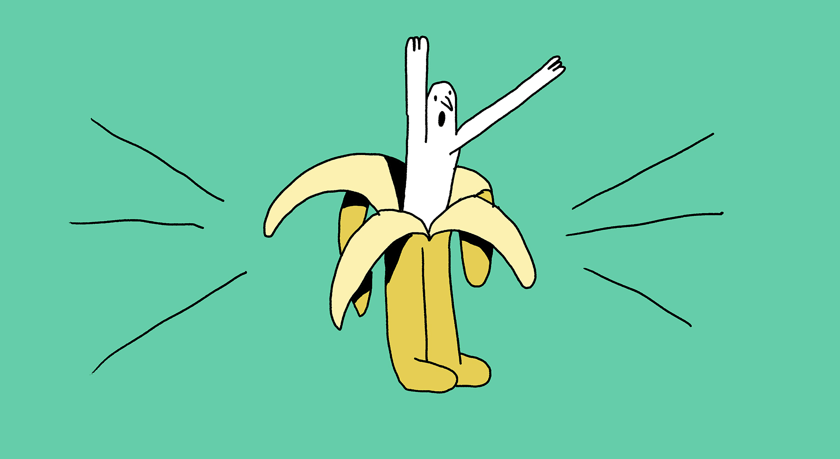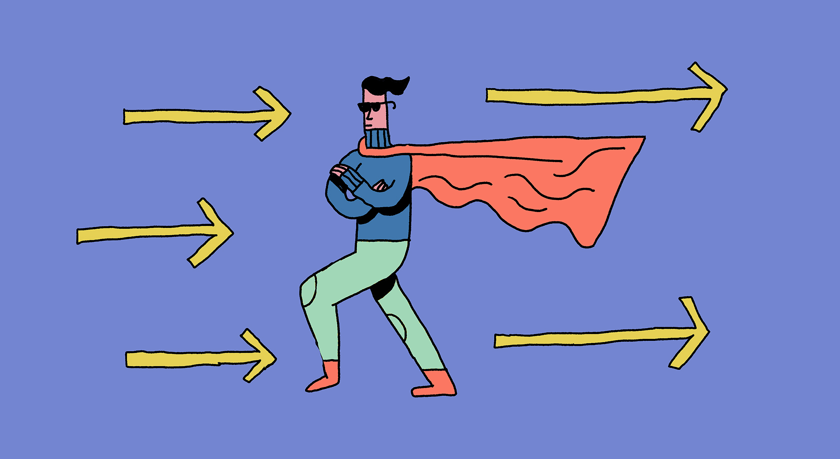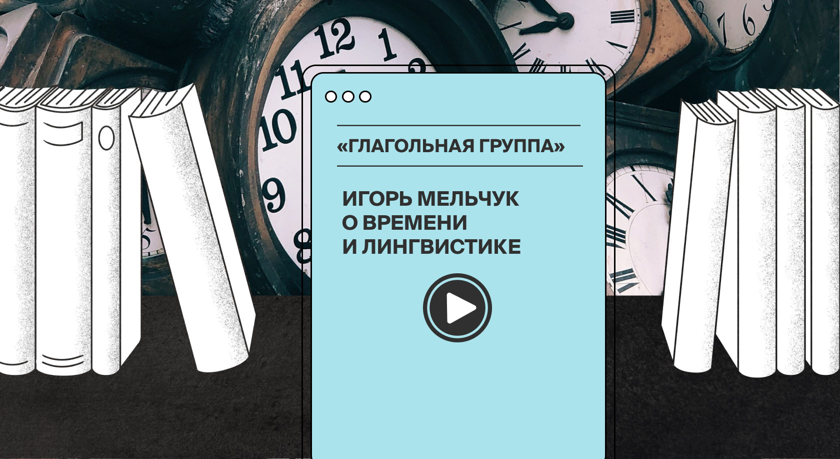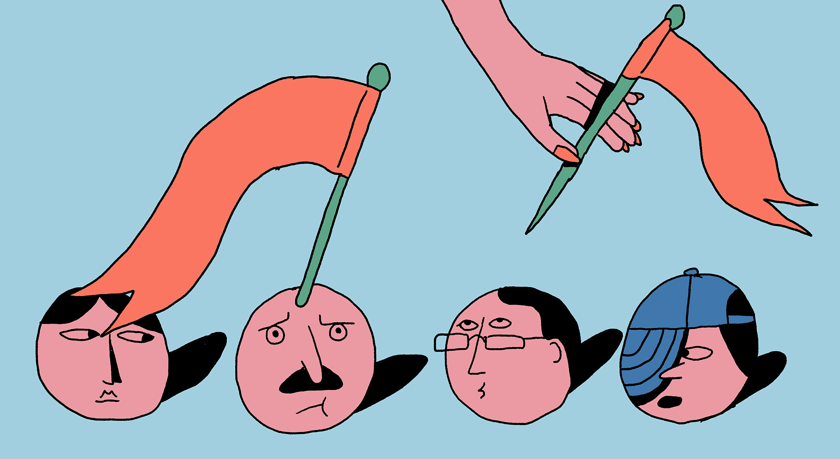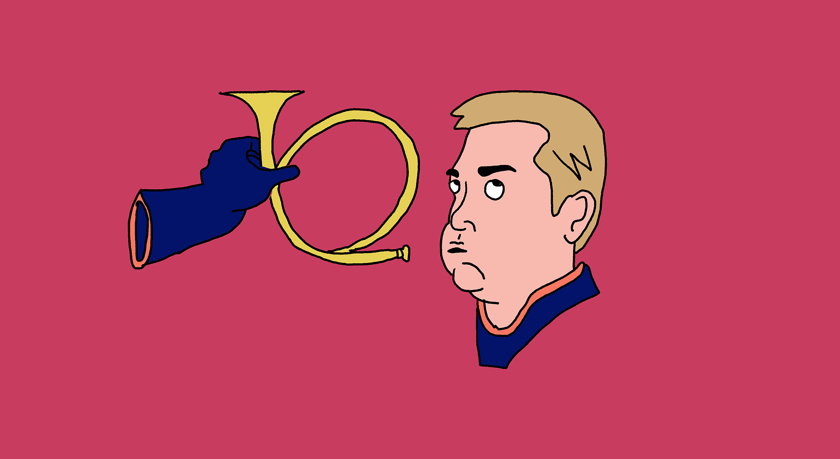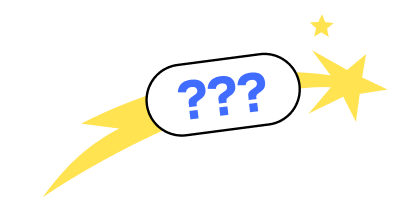О некоторых особенностях языка средств массовой информации
К языку средств массовой информации в последние годы читающей либо слушающей публикой и изучающими его специалистами-филологами предъявляются многочисленные и, увы, чаще всего вполне обоснованные претензии. Публику раздражает или шокирует, а специалистам кажется неоправданным или даже неприемлемым многое: и перенасыщение языка СМИ американизмами, и обилие в нем жаргонной, «блатной» и даже матерной лексики, и нарушение нормального темпа и нормативного интонационного рисунка речи.
Кое-какие из этих претензий можно счесть, конечно, чрезмерными. Так, дикторов и ведущих зачастую упрекают в преднамеренной англизации своей интонации. Думаю, упрек этот вряд ли обоснован. Объяснение этому факту, действительно имеющему место, надо искать, по-моему, в ином. В последние годы на радио и телевидение пришли в большом количестве люди, не получившие специальной подготовки в области устной русской речи, но люди образованные, изучавшие в вузах иностранные языки, в наших условиях — в подавляющем большинстве язык английский. А вот устной английской речи в стенах вузов, особенно вузах языковых, учат специально и вполне последовательно, заставляя затверживать определенные интонационные конструкции до автоматизма. И когда диктор или ведущий произносит подготовленный (подчеркну это слово) текст на русском языке, у него непроизвольно выскакивают затверженные английские интонации, так как он обучен только одному виду подготовленной устной речи — английской.
Увы, знаю об этом на своем собственном опыте. Когда мне приходилось готовить радиопередачи на русском языке для иностранных студентов, то, слушая их, я с удивлением узнавал на месте необходимых русских ИК-1 или ИК-2 заученные в университете английские glide up или glide down.
Надо сказать, что исправить этот порок устной речи дикторов и ведущих не очень просто, но можно: необходимо, с одной стороны, осознание ими английской интонации в своей речи на русском языке именно как ошибки (а ведь осознать ошибку надо еще и захотеть), с другой стороны, им надо учиться подготовленной устной речи на русском языке так же, как они учились английской речи, то есть используя образцовые записи и следуя им (и на это нужна добрая воля и к тому же немалое время и специальные пособия, которых, увы, я что-то в последнее время не видел).
Другие особенности языка СМИ последнего десятилетия, по-моему, наоборот, зачастую оцениваются менее строго, чем они того заслуживают. Так, многие не видят особой беды в обилии неоправданных заимствований из иностранных языков, в первую очередь, конечно, из английского, а еще точнее — из американского английского. Дескать, язык сам отсеет ненужное, оставив только необходимое. Тем более что в истории русского языка такие периоды экспансии иноязычной лексики были и ничего страшного не случилось. Достаточно вспомнить петровское время с мощным потоком заимствований.
Действительно, в нашей экономике, в нашей науке, в нашей повседневной жизни появляются новые явления, новые вещи, и вместе с ними приходят новые слова. Кто станет всерьез возражать против маркетинга, брокера, дилера или пейджера? Кто станет требовать, чтобы вместо компактного компьютер мы произносили громоздкое словосочетание электронно-вычислительная машина, в котором, кстати, первый и последний элементы — тоже заимствования? Но есть, как говорится, заимствования и заимствования. И многие из них совсем не безобидны.
Приведу лишь один пример. В язык СМИ прочно вошло заимствованное из английского слово киллер в значении «наемный убийца». Казалось бы, его появление вполне оправданно: во-первых, им обозначено новое явление — действительно, о наемных убийцах в нашей повседневной жизни лет двадцать назад нам говорить не приходилось; во-вторых, оно более компактно по сравнению с двусловной номинацией наемный убийца, что тоже удобно в наше время ускорения темпа жизни и речи. Но все же, все же... Ведь назвать человека наемным убийцей — это одновременно и вынести ему самый суровый нравственный приговор, а назвать его киллером — это как бы просто определить род его профессиональных занятий: «Я дилер, ты киллер, оба вроде делом занимаемся».
Никак нельзя забывать, что слово не просто называет вещь — оно и «встраивает» ее в определенную, веками складывающуюся картину мира. Понятно, что пришедшее в русский язык слово пейджер закономерно и безболезненно «встроило» в нашу картину мира новую вещь — удобный и дешевый прибор для облегчения общения между людьми на расстоянии. «Чужак» киллер же как бы «прикрыл» собой жуткое и дикое для русской картины мира явление — «наемного убийцу», худшего из убийц, убивающего не в ярости, не в ослеплении страсти или безумия, даже не в порыве непреодолимой жажды наживы, а хладнокровно, обыденно, в порядке, так сказать, исполнения своих служебных обязанностей. Окольное втаскивание в сознание людей «нормальности» этого жуткого явления нашей современной жизни под прикрытием оценочно-нейтрального для русского уха заимствованного слова киллер — безнравственно.
Хотелось бы, чтобы работники СМИ не забывали об этом: слово не только называет, но и оценивает; используя то или иное слово, они не только информируют читателя или слушателя о том или ином событии или явлении, но и выражают свое личное отношение к нему, одновременно транслируя это отношение и в сознание читателя или слушателя.
Именно об этом писал Л. Н. Толстой: «Слово — дело великое. Великое потому, что словом можно соединить людей, словом же можно и разъединить их, словом служить любви, словом же можно служить вражде и ненависти. Берегись от такого слова, которое разъединяет людей»1.
Еще одной особенностью языка СМИ последних лет, причем особенностью очень яркой, является так называемый стеб. Социологи Л. Гудков и Б. Дубин дают такое определение этого явления: «Стеб — род интеллектуального ерничества, состоящий в снижении символов через демонстративное использование их в пародийном контексте...»2 Стеб как особый стиль общения, как специфический язык интеллигентской и молодежной «тусовки» возник и развился в 1970–1980-е годы. А. Агеев пишет: «...ерничество и стеб были тогда противопоставлены официальному политико-патетическому жаргону, а заодно и всему „великому русскому языку“, позволившему себя редуцировать до партийного „новояза“. Это была своеобразная культурная самооборона, весьма, впрочем, глухая и не всегда ясно осознаваемая „носителями языка“»3.
Время тоталитарного «новояза» безвозвратно ушло, однако противостоящий ему стеб выжил, и не только выжил, но и расцвел пышным цветом. Об этом недоуменно писал в 1994 году А. Агеев: «Удивительно, однако, вот что. На наших глазах сменилась эпоха, ушел в прошлое контекст, в котором стеб только и мог существовать и <функционировать>. Вдруг некому и нечему стало противостоять, ибо партийная риторика стала частным делом отставных специалистов по „научному коммунизму“. Да и единомышленники, носители языка как-то незаметно лишились культурного общего пространства. Стеб по всем расчетам должен был тихо почить в бозе. Но не тут-то было! Последние три-четыре года стали временем настоящего триумфа стеба. Стебают нынче все! Вслед за удалым „Московским комсомольцем“ застебали „Независимая“, респектабельная „Сегодня“, гордый „Коммерсант“. В журнале „Столица“ перебивают друг друга два мастера просто-таки виртуозного стеба — Денис Горелов и Алексей Ерохин»4.
Со времени написания цитировавшихся слов А. Агеева прошло шесть лет, но ситуация практически не изменилась: средства массовой информации как стебали, так и продолжают стебать.
Для того чтобы понять причину такой живучести стеба, попытаемся разобраться, чем был его противник «новояз» и чем стал после ухода «новояза» сам стеб.
Блестящий анализ «новояза», или языка политических текстов советской эпохи, дал в своей уже ставшей классической работе Патрик Серио5. В результате этого анализа выявляются две яркие особенности советского политического языка — так называемые «номинализация» и «сочинение».
Номинализация — это замена личных форм глаголов их производными на -ание, -ение, -ация и т. п., например: Главным источником роста производительности труда должно быть повышение технического уровня производства на основе развития и внедрения новой техники и прогрессивных технологических процессов, широкого применения комплексной механизации и автоматизации, а также углубление специализации и улучшение производственного кооперирования предприятий6. Итогом таких бесчисленных номинализаций становится «исчезновение субъекта, агенса того, о чем говорится. Все процессы приобретают безличный облик, хотя и не схожий с тем, который имеет „классическая“ безличность в русском языке (например, меня так и осенило, его будто бы ударило и т. п.). А после того как субъект устранен, возможны дальнейшие уже чисто идеологические манипуляции с поименованными сущностями»7.
Сочинение — это соединение посредством союза и понятий, которые в обычной русской речи синонимами не являются, например: партия и народ. Союз и вообще может устраняться, и возникают сочетания типа партия, весь народ или комсомольцы, вся советская молодежь. Как пишет Ю. С. Степанов, результатом этой процедуры становится следующий семантический парадокс: «Огромное количество понятий в конечном счете оказывается как бы синонимами друг друга, чем и навевается идея об их действительном соотношении „в жизни“, о чем-то вроде их тождественности»8.
Что же, согласно анализу П. Серио, возникает в результате десятилетий «советского способа оперирования с языком»? По его мнению, это не новый язык, и не новый «подъязык», и не новый «стиль». Это так называемый «дискурс». Давая определение этому сложному понятию, Ю. С. Степанов пишет: «Дискурс — это „язык в языке“, но представленный в виде особой социальной данности. Дискурс реально существует не в виде своей „грамматики“ и своего „лексикона“, как язык просто. Дискурс существует прежде всего и главным образом в текстах, но таких, за которыми встает особая грамматика, особый лексикон, особые правила словоупотребления и синтаксиса, — в конечном счете — особый мир. В мире каждого дискурса действуют свои правила синонимичных замен, свои правила истинности, свой этикет. Это „возможный (альтернативный) мир“ в полном смысле этого логико-философского термина. Каждый дискурс — это один из „возможных миров“. Само явление дискурса, его возможность и есть доказательство тезиса „Язык — дом духа“ и, в известной мере, тезиса „Язык — дом бытия“»9.
Тезис «Язык — дом бытия» принадлежит, как известно, крупнейшему философу-экзистенциалисту Мартину Хайдеггеру10. Ю. С. Степанов, отмечая предельную «онтологозированность» концепта языка у Хайдеггера, дает свои определения языка как «дома бытия духа» и как «пространства мысли». Итак, «новояз» как особый дискурс, как особый «язык в языке» был особым специфическим «домом бытия», или «домом бытия духа», или особым «пространством мысли».
Развивая метафорические возможности тезисов М. Хайдеггера и Ю. С. Степанова, можно сказать, что если язык классической русской литературы был «усадьбой бытия», то «новояз» сталинско-брежневских времен — «ГУЛАГом бытия, духа и мысли».
В таком случае язык диссидентствующей интеллигенции советского времени можно уподобить «кухне бытия, духа и мысли». На этой знаменитой кухне, вдали от всеслышащих ушей и всевидящих глаз, между «своими» рождались крамольные мысли и говорились крамольные вещи. И говорились они на языке стеба, препарировавшем, как скальпель, омертвелые «новоязовские» номинализации и согласования. Стеб стал домом новой, препарирующей мысли и нового, опозиционно-деструктивного бытия. И в этом его важная роль в разрушении «новояза» как ГУЛАГа бытия и мысли.
И вот «новояз» как особый дискурс и как особое «пространство мысли» разрушен, но стеб продолжает существовать в своей главной функции — функции своего рода интеллектуальной лаборатории. Здесь можно «разъять» тело символов и других языковых форм на составляющие элементы, подвергнуть их разъедающему воздействию кислоты иронии и поставить диагноз: «вещь ли это истинная» или фантом, идеологический труп?
Но созидать посредством стеба нельзя. В анатомическом театре можно постичь строение тела человека, но рождение новой личности происходит в другом месте. Так вот, стеб может быть уподоблен «анатомичке», прозекторской интеллекта, но ни в коем случае не его роддому. Можно век сидеть в интеллектуальной прозекторской стеба и так и сяк препарировать разъятый труп умершего «новояза», но что-либо, кроме анатомических препаратов, породить при этом вряд ли удастся. Думается, настало время средствам массовой информации переселяться из прозекторской стеба в более подобающее жилище, и никакого иного дома, кроме выстроенного не одним поколением наших предков здания «великого русского языка», до которого тоже добирается «не помнящий родства» стеб, найти все равно не дано.
По материалам круглого стола «Русский язык в эфире: проблемы и пути их решения» (Москва, 14 ноября 2000 года, комиссия «Русский язык в средствах массовой информации» Совета по русскому языку при Правительстве Российской Федерации).
Еще на
эту тему
Популяризация лингвистических знаний в средствах массовой информации
Лингвист Леонид Крысин объясняет, как говорить о языке профессионально и интересно
Русский язык в ближнем зарубежье и русская речь в российских средствах массовой информации
Каковы перспективы сохранения русского языка как родного и неродного за пределами России?
Церковная лексика в практике современных СМИ
Церковнославянский язык сегодня воспринимается как чужой и требующий специального изучения
Активные процессы в русском языке последнего десятилетия ХХ века
Нуждается ли современный русский язык в защите?