Игорь Исаев: «Мы прикладываем недостаточно усилий для просвещения наших соотечественников»
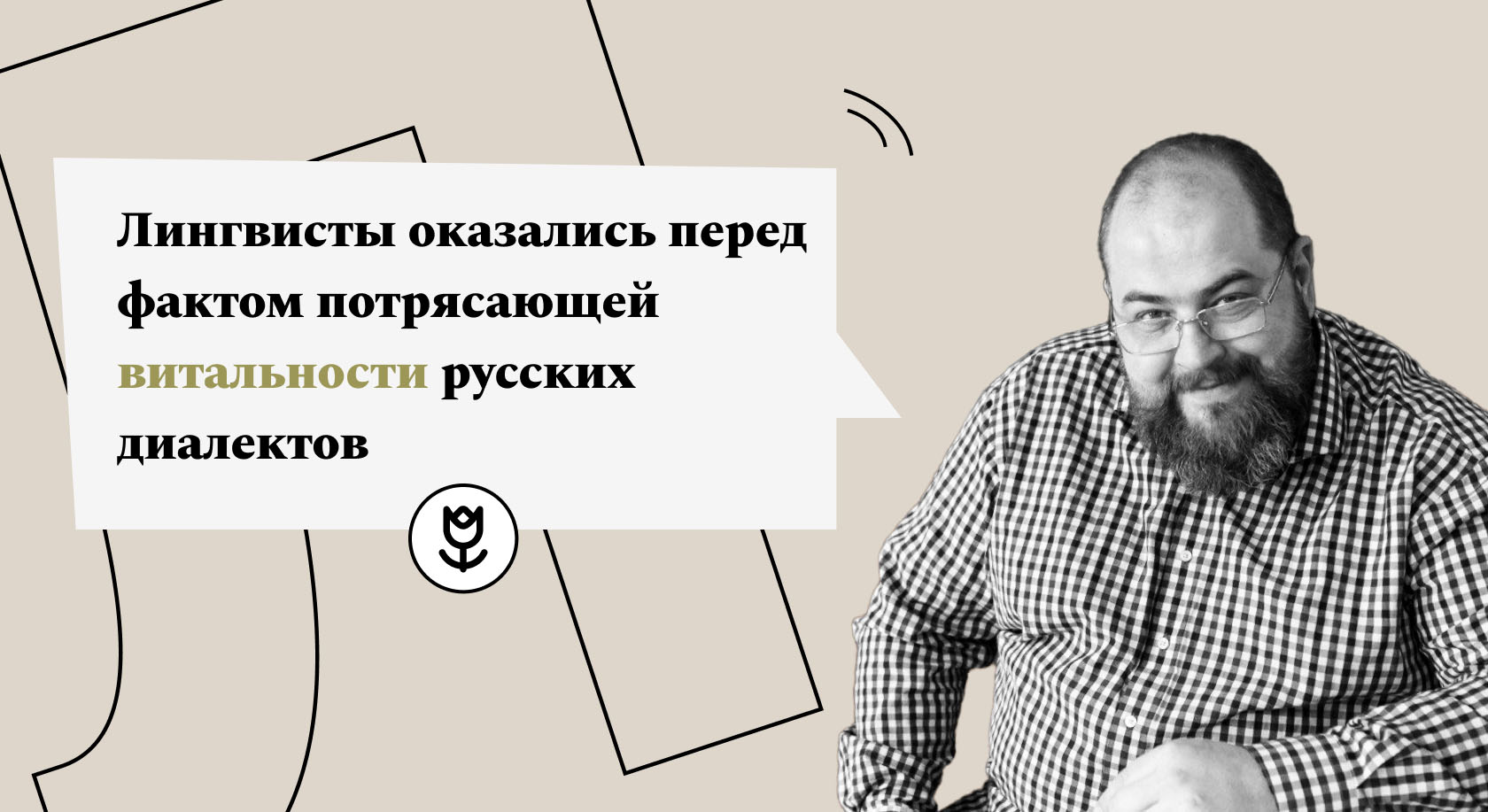
Поскольку я не просто русист, а русист-диалектолог и фонетист, то меня, как и все сообщество русистов-диалектологов, которые понимают важность диалектов для истории языка и для понимания современного состояния языка, очень волнует их исчезновение.
Еще до революции, в 1910-е годы, Алексей Александрович Шахматов писал в письме о том, что надо как можно скорее начинать ездить по территории распространения русских диалектов и стараться их записать, потому что прямо на глазах они уходят. Потом все были уверены, что после окончательной победы советской власти диалектов не останется, потому что всеобщее образование в советской школе неизбежно уничтожит их. В 1970-х годах представители саратовской социолингвистической школы Лидии Ивановны Баранниковой утверждали, что теперь уж точно диалекты закончились.
Сейчас 2024 год, мы вернулись в конце февраля из экспедиции. И что же мы видим? Мы видим, что диалекты сохраняются очень хорошо.
Несмотря на все заявления, которые были сделаны раньше и которые периодически приходится слышать сейчас от лингвистов, диалекты исчезают (если они исчезают) совсем не потому, что это неустойчивая система. Лингвисты оказались перед фактом потрясающей витальности русских диалектов. Они сохраняются как система: архаичные явления, которые были зафиксированы в конце XIX и в начале XX века, можно услышать и у нынешних носителей, они передаются вне зависимости от кодифицированной нормы. Нигде нельзя посмотреть, как произносить два о и два э в русских диалектах. Это можно только услышать от бабушки, мамы, папы. Система оказалась очень устойчивой.
Идея, что диалекты исчезают сами по себе, не сработала, идея, что всеобщее обучение убьет диалекты, не сработала. До тех пор, пока есть территориальное варьирование населения, то есть люди, живущие в городах, и люди, живущие в селах, диалекты сохраняются и будут сохраняться.
Тем не менее до сих пор некоторые лингвисты искренне удивляются: «А что, диалекты до сих пор еще существуют?» Они наверняка прослушали фундаментальный университетский курс истории русского языка и диалектологии, но живут с убеждением, что диалекты мертвы. Это касается и докторов наук, и студентов: люди с филологическим образованием не знают, что история языка может иметь реальные живые воплощения, которые можно сегодня «потрогать» — например, с помощью программы инструментального анализа речи.
Диалектам сегодня действительно грозит исчезновение, но истощение диалектной почвы имеет другую, нелингвистическую природу: в деревне не остается людей. На юге России, где сохранились многолюдные сельские поселения, еще вполне можно услышать диалектную речь. Более того, говорящий на диалекте может настаивать, что его вариант — это правильная речь: «Вы, городские, странно как-то говорите, ведь правильно же так, как у нас!» Это возможно благодаря тому, что диалектный коллектив очень большой.
Носители диалекта, общаясь на своем варианте русского национального языка, не испытывают никаких коммуникативных проблем и уж тем более моральных страданий из-за того, что их язык не такой, как в телевизоре.
А вот если переместиться на север, где в населенном пункте живут два, три, пять человек, начинаются проблемы. Молодежь там не остается, и в результате прерывается передача диалектного варианта языка младшему поколению. И диалект исчезнет не потому, что он неустойчив как языковой феномен, а именно по причине отсутствия людей, прерванной традиции передачи.
Конечно, мы спешим записать русские диалекты в их современном состоянии как можно быстрее. И тут главное наше беспокойство связано с тем, что людей, которые в состоянии делать такие записи и работать с этими материалами, очень немного. Диалектологи не подготовили себе смену: эпоха создания «Диалектологического атласа русского языка» ушла вместе с авангардом этого направления, с Рубеном Ивановичем Аванесовым.
Работы после 1982 года делались уже руками следующего поколения диалектологов, которые были сосредоточены на научных исследованиях, а преподавание, как это часто бывает, в значительной степени оказалось вне поля их внимания. В последние годы количество диалектологов чуть-чуть подросло, потому что младшее поколение стало преподавать в университетах, так что появилась молодежь, появились интересные проекты. Новые диалектологи подросли, но они совсем другие — традиция отчасти прервалась. Сейчас из людей, работавших над составлением «Диалектологического атласа русского языка», в отделе диалектологии Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН работают Ирина Анатольевна Букринская и Ольга Евгеньевна Кармакова. Хотелось бы, чтобы младшие и старшие больше общались, тогда преемственность восстановится и традиции будут продолжены.
Еще одна моя печаль как русиста связана с тем, что многие люди охотно покупаются на «лингвофантастику», и это говорит о недостаточном лингвистическом просвещении. Например, нет понимания того, что такое словообразование, поэтому они начинают членить слова в соответствии со своими фантастическими убеждениями и приходят к выводу, что радость — это ‘доставить РА’, а этруски — ‘это русские’.
Удивительно, что многие верят в самые невероятные теории, не обращая внимания на то, что им начиная с пятого класса школы объясняли про словообразовательные модели и морфемное членение слова.
Значит, у «лингвофантастов» нет никаких представлений ни о морфологии, ни о грамматике, но зато есть захватывающая идея о том, что мы видим перед собой кирпичики древнейшего состояния языка, и можно взять, к примеру, финно-угорский топоним и легко перевести его при помощи санскрито-русского словаря.
Очевидно, что мы недостаточно усилий прикладываем для просвещения наших соотечественников. Наука и популяризация науки должны идти вместе, причем не только популяризация в виде лекций, но и прямое общение. Это то, чего русистике не хватает. Мне кажется принципиально важным, чтобы все люди, владеющие русским языком, понимали, как устроен наш язык, как он возник и развивается, а для этого нужны совместные усилия школы, ученых, средств массовой информации. Тогда есть некоторая надежда, что наши соотечественники будут меньше очаровываться мифологией, охотнее анализировать текущее состояние языка, размышлять над тем, что с ним происходит.
Еще на
эту тему
Как цифровизация помогает сохранить языки коренных народов России
Голосовые помощники, цифровые учебники и онлайн-переводчики вносят вклад в создание языковой среды
Ольга Крючкова: «Работа по сбору и сохранению диалектной речи — это историческая миссия лингвистов»
Что волнует русистов сегодня? Опрос Грамоты
О хворсе и басе русских диалектов
Лекция кандидата филологических наук Игоря Игоревича Исаева

























