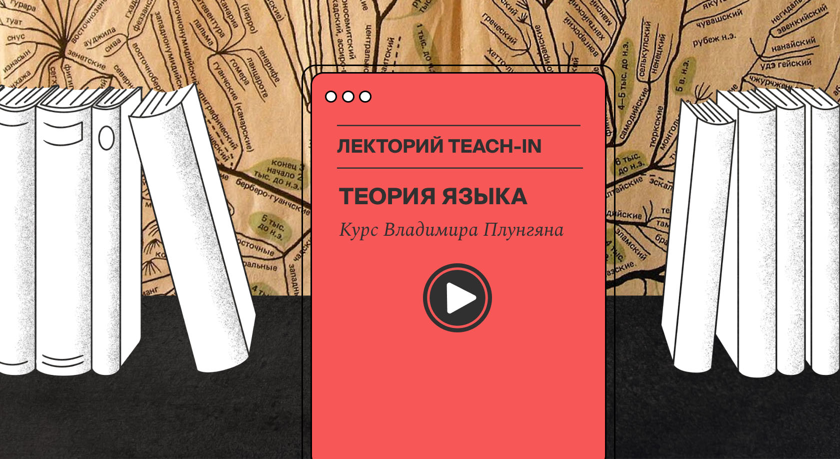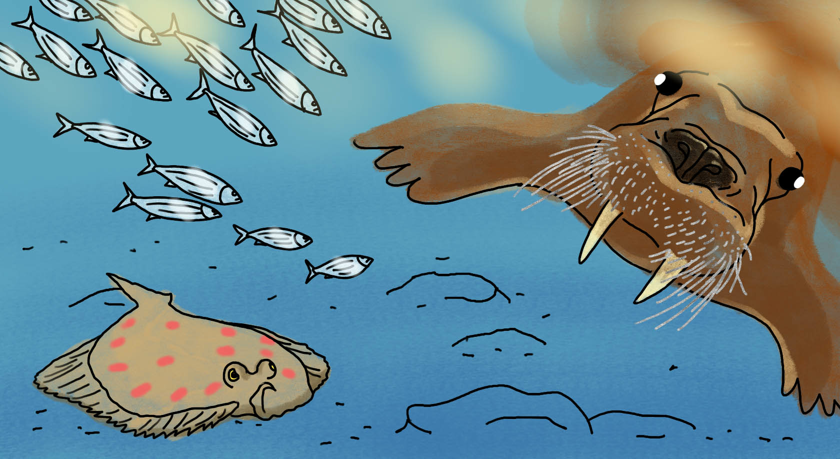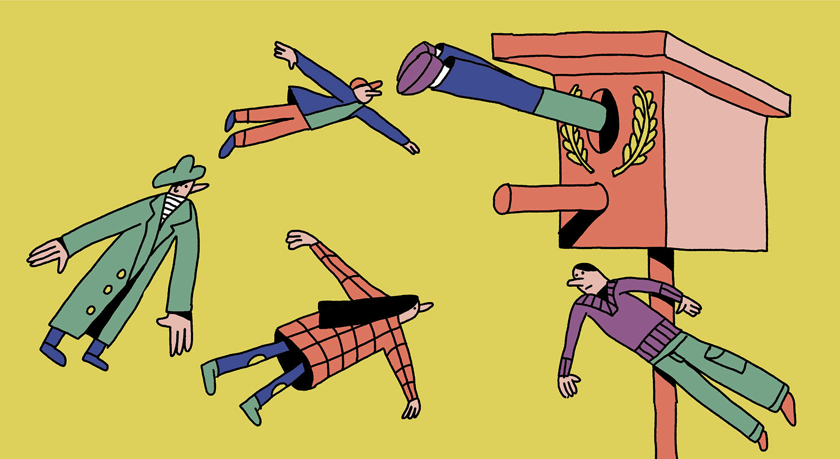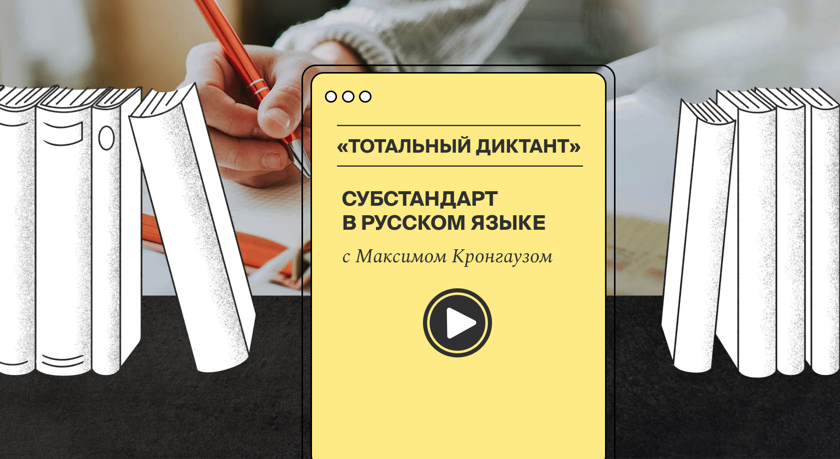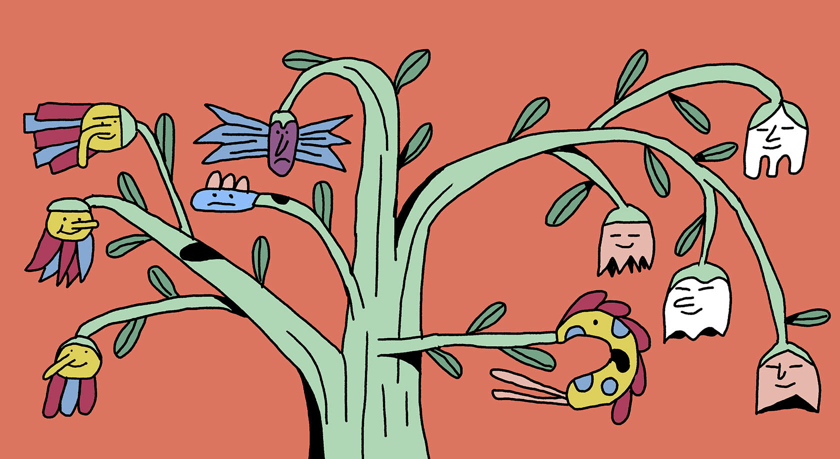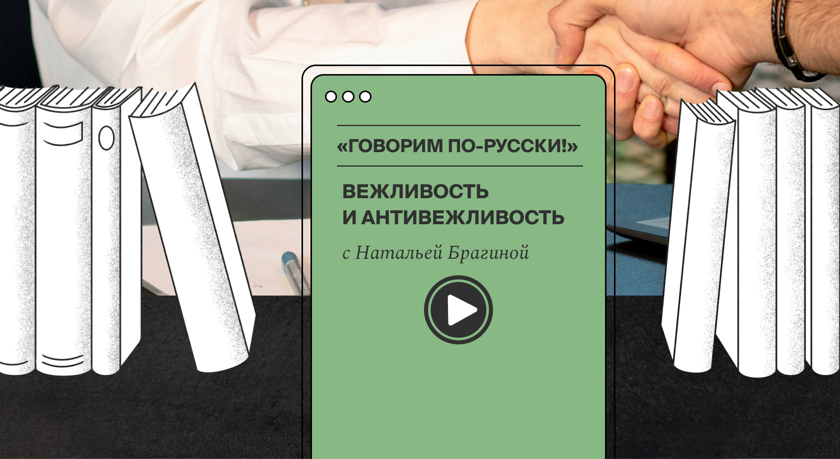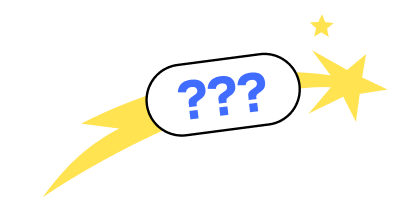Веха — чудо XX века
Сборник работ Виктора Петровича Григорьева «Будетлянин» посвящен творчеству русского поэта Велимира (Виктора Владимировича) Хлебникова. Грамота публикует одну из статей, вошедших в этот сборник.
Веха — один из псевдонимов Хлебникова. В этой статье не ставится задача обосновать новыми материалами и новыми аргументами тезис, вынесенный в ее заглавие. Она выросла из статьи, заказанной автору в 1998 году газетой «Известия». Предполагалось вслед за статьей Даниила Данина о такой знаковой фигуре века, как Нильс Бор, обратиться к личности Хлебникова. Та моя статья показалась редакции, видимо, справедливо, «слишком трудной». Теперь в ином контексте ее версия должна появиться в сборнике статей к столетию Сергея Ожегова1. Многие из тем, которые затрагиваются здесь ниже, нашли более или менее подробное рассмотрение в других работах из настоящего издания2, а также в статье «Велимир Хлебников»3.
Часть 1
Русь Велимира, Анны и Марины4.
И творчество, и чудотворство.
А небом избранный певец <...>
— Вы — не Достоевский <...>
Ну, почем знать, почем знать <...>
Меньше чем за год до своей кончины Хлебников написал такие горькие слова (Твор., 167):
И с ужасом
Я понял, что я никем не видим,
Что нужно сеять очи,
Что должен сеятель очей идти!
Это была правда. Пусть не вся, но лгавда ее не подстилала. Фальшь Веха презирал. Он попытался еще успеть хотя бы вчерне завершить «Зангези» и «Доски судьбы» — свои итоговые произведения разных жанров, иногда даже кажется: противостоящих одно другому5. Каждое из них явно обладает своей эстетикой, но оба они — единой природы, устремленности и, как всегда у Хлебникова, единого авангардного (не авангардистского!) пафоса. В каком-то смысле они равновелики, равномасштабны — эти разные ипостаси развивающегося и многомерного, но единого идиостиля.
Веха с юности «хотел невозможного» и, можно сказать, по-своему добился его. Иннокентий Анненский в 1907 году признавался в любви к «печальному», но и «нежному» слову невозможно — Хлебников за пятнадцать последующих лет, что были ему отпущены, как бы снял здесь принципиальную коллизию между словом и делом. Не только настойчивой реализацией «осады слова» (того самого — самовитого, вроде бы знаменитого, но недопонятого, кажется, даже филологами) в своей нежной и вместе с тем суровой лирике, эпике, пьесах и публицистике (если мы вправе так дробить единую для всего множества жанров глубинную эволюцию идиостиля Будетлянина). «Дело» прорастало в разных его «дискурсах». Слово Хлебникова отлилось и словотворчеством на службе идее равнебна, и эстетикой числа, и звездным языком, и главным, казалось поэту, делом его жизни — открытием основного закона времени. Это было, строже говоря, предложение своей версии такого закона. Но других, конкурентоспособных версий у него нет. А «закон» этот — этапный опыт поиска онтологического Единства мира (если не сама находка), в развитие «положительного всеединства» Владимира Соловьева, уже на новом уровне, синтеза естественно-научных и гуманитарных, философских и социальных знаний и представлений первых десятилетий XX века6.
Импульс поискам «закона» был задан Дарвином и Толстым7, мыслителями Запада и Востока, российской традицией «всемирной отзывчивости», но скорее всего — тремя «факторами»: 1) воображаемой геометрией Лобачевского, 2) воображаемой логикой Николая Александровича Васильева, тоже «казанца» (по университету, где учился Хлебников) и 3) непосредственным шоком от гибели броненосца «Петропавловск» в 1904 году (ср. отклик Вехи в «Детях Выдры» на трагедию «Титаника»). Пространство Лобачевского (Твор., 281) было первоначальной основой «воображаемой филологии» и «воображаемой истории» Хлебникова и всего его «воображаемого мировидения», третируемого как беспочвенная «утопия». Подход Лобачевского был распространен на весь, так сказать, «невозможный возможный мир» во всех его виртуальных манифестациях, частных проявлениях, формах движения материи и духа, в принципе — на любые духовные, гуманитарные сферы: ранний интерес к природе, философии, физике, математике, физиологии, стереохимии, этологии etc. естественно разрастался, захватывая глубины всемирной социальной, военной, религиозной etc. истории, равно как и обжигающую современность людских «множеств», или «толп» — народных масс.
«Сеятелей очей» — и очень разных — нашлось немало. Среди них были и скорострельные критики 1910-х годов, и ранние опоязовцы вроде Шкловского, которым застил свет «заумный язык», мнимая беспредметность неологизмов Будетлянина, и погромщики сталинской поры, и заведомые скептики или/и лентяи — нехотяи последующих десятилетий. Многим могла бы, конечно, помочь открыть «общий смысл» Хлебникова-поэта статья-жемчужина Тынянова в пятитомном собрании произведений Вехи (1928–1933). Но уже приходилось отводить глаза и от более актуального — страшного. Лучший друг советских интеллектуалов не высказался об «одном из поэтических учителей» нашего «лучшего, талантливейшего» — и слава Богу? Для Сталина Хлебников не составлял проблемы; даже став в 1950 году «языковедом», податься в вели-мироведы он как великий трагико-фарсовый прагматик, так сказать, «Главздрасмысл» в кавычках, не решился (а жаль: вот была бы картина...). У Жданова — просто руки не дошли. Хрущеву — хватило Пастернака...
На современность тоже полезно взглянуть как бы «глазами Вехи», отвлекаясь от собственных приоритетов в «политполе», экстраполируя на политическую злободневность (в той мере, в какой это вообще возможно) политические убеждения именно Хлебникова, проецируя их на лексикон политобозревателей и прессы.
Тем более что в годы лысенкования или янаевщины, зюганизации или жириновщины «лубочное самодержавие», «казенное православие», «мертвенная народность» Александра Шилова и даже различные «шуты Марычевы» (Александр Гельман) оказывались интереснее Вехи как властям, так и обществу.
* * *
Разговор о Хлебникове можно начать с Ломоносова, Пушкина, Блока, Мандельштама и Маяковского, но можно (и стоило бы) с Лобачевского, Эйнштейна, Бора и сэра Роджера Пенроуза8. Можно с проблем «Поэт и природа» или «Поэт и политика», а можно (и было бы нужно — упрек не только философам) с Пифагора и Платона, Лао-Цзы и Христа, Спинозы, Канта и Владимира Соловьева, Леонардо и Татлина, Кропоткина, Нансена или Ленина. Хлебников придумал слово Платономерия, и он всегда любому из сотен своих выдающихся «провиденциальных собеседников» (О. Э. Мандельштам) находил особую -мерию, собственный своеобразный, независимый (и разительно отличный от «шкловского» или «михалковского» etc. мнимогамбургских счетов), чуткий и бескорыстный, целеустремленный «будетлянский счет».
Но сам Веха культурой не «измерен», не принят ею во весь его народный, национальный рост, самостоянья как бы не удостоен, обществом ни к чему Высокому и Актуальному не причислен. Даже Александром Исаевичем Солженицыным не взят на заметку, не обсужден. В толпе заполонивших сегодня речь неизвестных Будетлянину (чуравшемуся «западного» корнеслова) «новых русских» слов типа билборд, блокбастер, бойфренд, брейк-бит, бутик (его-то Веха знал с детства), VIР, гей, ГИБДД, гомо советикус, дефолт, дилер, импичмент, истеблишмент, киллер, лейбл, масскулът, нон-стоп, оффшор, памперс, пиаровский, поп-икона, промоушн, римейк, секонд хэнд, хит-парад, шлягер, эксклюзив etc. (не будем вдаваться в их функции, типологию и этимологию) самовитое слово Хл не смотрится, в шуме тусовок, раскруток и презентаций его не слышно. Элитарные «черти»-культуртрегеры стали в кружок по другому поводу, спинами к Вехе, оброка платить ему не желают. Понятно, почему его слово остается вне внимания наших любителей великосветских «обойм», но под присмотром городового из «Синих оков» (Твор., 370):
Свисток в ушах, ведь пишется живое слово,
А с этим ссорится закон
И пятит свой суровый глаз в бока!
Закон. Государство. Интеллектуальная, но на круг малоинтеллигентная «элита». Именно стыдеса Вехи занимают наше властное ничто и наше умнечество (Твор., 103, 580) куда меньше, чем думские, или газетные, или ТэВэшные словеса. А Веха только-только еще начинает восприниматься как некий Небесничий9, идеальный творянин, первый Предземшар, неоцененный мечтежник и (Главздрасмысл) в одном лице.
* * *
Той «беспочвенности», которую в 1905 году по-своему воспел Лев Шестов, а мы в конце века, пусть по-другому, ощущаем в самых разных ее изводах и коллизиях, Хлебников сумел противопоставить богатейшую Почву доступной ему тогда мировой культуры — опыт Лейбница и Моцарта, Менделеева и Минковского, Скрябина, Пикассо и русских народных говоров (ставших для него и важной моделью словотворчества)10.
1914 год, когда появился, в частности, русский перевод «Творческой интуиции» Анри Бергсона, застал Хлебникова вполне сложившимся поэтом-мыслителем, уже накопившим и собственный разнообразный опыт естественно-научных и гуманитарных исследований.
Интуиция, а то и, как он выражался, безумь, не входила у него в конфликт с интеллектом (разумом, умом, или разумью — «сестрой» безуми; см.: СП, 2, 264 и «Зангези»), а образы — с понятиями.
Он — ровесник и вместе с тем, можно сказать, даже поэтический пред-, предшественник Нильса Бора, соратник и в некоторых отношениях теневой конкурент Фердинанда де Соссюра, прямой предтеча ОПОЯЗа. В день смерти Хлебникова (в возрасте 36 лет) Илье Пригожину шел еще шестой год, только что родился Юрий Лотман. Трудно сомневаться в том, что сопоставления творчества Хлебникова с их деятельностью позволят углубить наше понимание не только «пред-, предсинергетического», но и «пред-», а то и прямо-таки «семиосферного» у Вехи11. Ср. в стих. «Ручей с холодною водой...» (Твор., 147; 1921):
Аул рассыпан был, казались сакли
Буквами нам непонятной речи.
Потому на ум и приходит такой образ личности Хлебникова, как небывалый, «чудесный сплав» неклассической поэзии с неклассической наукой и неклассической, разве лишь по форме непрофессионально философской системой мировоззрения.
Но шкала оценок, какие получал в нашем веке и продолжает получать Будетлянин, раздвинута до предела. Напомню о существующем здесь беспримерном коловращении: «гений» (а таким Хлебникова воспринимали и воспринимают многие видные деятели культуры; среди них Давид Бурлюк и Роман Якобсон, но, например, и Дмитрий Владимирович Сарабьянов, и ряд музыковедов), «ствол века» и «самый чистый голос моего времени» (Николай Николаевич Пунин), «сумасшедший» (Максим Горький, Иван Бунин и др.), «честнейший рыцарь», но и вроде бы «поэт для поэтов» (Маяковский), «безумный, но изумительный» (Ахматова), «чужой» (Пастернак, 1930-е годы; позднее признал, что недооценивал Веху), «поэт для эстетов» (Борис Яковлев, 1948), «любимый поэт» (Марк Захаров, 1990-е годы), «вселенское мышление» (Бахтин), «особый случай» (Владимир Вейдле), «смутное камлание» (Ирина Роднянская), «утопист» (очень многие), «мистик и националист» (Александр Гольдштейн), «языковое сумасбродство», «лицемер», «графоман», даже «наркоман» etc. (включая и недостойные, лживые непристойности старейшего опоязовца, опубликованные в «Литературном обозрении» в 1993 году! Недаром Хлебников когда еще побаивался Шкловского. Однако, следуя Вехе и его «Детусе...», страшных имен мы не будем бояться — Твор., 151).
Пейоративы — сегодня это слишком очевидно — связаны с общенаучной или/и «сердечной» недостаточностью оценщиков. Но и «мелиоративы» предстают перед нами скорее ощущениями и догадками, чем выводами на основе всесторонних разысканий. Оценки все еще замкнуты в частных парадигмах и вкусовых аксиологиях, их противоречивость как бы сохраняется под спудом Культуры, не привлекая к себе ее высокого внимания. «Парадигмы гонимых» — Ахматовой, Бердяева, Бродского, отца Сергия Булгакова, Александра Введенского, Василиска Гнедова, Гумилева, Вячеслава Иванова, Ивана Ильина, Кручёных, Кузмина, Алексея Лосева, Мандельштама, Набокова, Пастернака, отца Павла Флоренского, Хармса, Цветаевой... — доминируют, хотя иной раз, трезво или, чаще, наскоками, подтачиваются «отдельными авторами», хотя и не столь жестко, как «парадигма Маяковского».
Веха в самом деле так и не был «запрещен» властями — и слава Богу; его художественные произведения как-никак печатались и печатаются — и никто, в общем-то, не против; столетие со дня его рождения пришлось на самое начало «перестройки» и, по критериям 1985 года, было относительно достойно отмечено; уже использованная в этом томе работ о Будетлянине литература наглядно показывает, насколько «международен», широк и разнообразен интерес филологов к Вехе, — чего же боле?
«Боле»? Да вот все еще на очень разных «языках», со странно разными установками и концепциями, подходами к интерпретациям, гипотезами, инерциями и предрассудками прощается с Вехой наше столетие. Конечно, в какой-то степени это «нормально», что «языки», установки etc. перед лицом сложного явления чаще всего не сводятся к некоторому удовлетворяющему всех ученых «единству противоречий». Даже двухсотлетний Пушкин такого единства не достиг.
Однако внутренние и чисто внешние противоречия вокруг фигуры Хлебникова нередко противоречивы, по старой формуле, «кричаще».
Оставаясь в режиме «диалога глухих» (если не «слепоглухонемых»), они привычно игнорируют давно доступные факты, удручают предвзятостью и откровенным «окамененным нечувствием» (Иоанн Златоуст).
«Боле»? Но по-прежнему неисчислим перечень видных отечественных «мастеров культуры», для которых Веха — это или «полный нуль», или всего лишь отдельные редкие отходы от его «неполной нормальности» (Арсений Тарковский, многие другие)12. И неисчислим перечень «учреждений культуры» с нехотяями из круга так называемых «организаторов науки», не желающими профессионально присмотреться к Хлебникову. По сохраняющейся легенде, он, видите ли, человек «не от мира сего». На поверку же, этот, в глазах многих, недостойный внимания «неприкасаемый» живо, страстно тяготел к «горячим точкам» мира как «больший реалист, чем многие трезвые практики»13. Это был великий ходок Пума (его прозвище), X. В. (еще один яркий и показательный псевдоним Вехи14), переплывавший в Крыму трехверстный залив Судака и любивший езду на неуках — этих необузданных конях чужих конюшен (Твор., 641).
«Боле»? А если даже не погромные и издевательские — вполне пристойные, благонамеренные и «терпимые», устоявшиеся за десятилетия аксиологии с признанием Хлебникова лишь «так сказать» (по выражению Андрея Белого) существенно искажают реальную картину движения духовных завоеваний XX века? Если не исключено, что мы проглядели Будетлянина как нашу российскую действительно великую культурную гордость и «национальную идею»? Если, увлеченные блеском «элитных» писательских и иных обойм, мы вольно или невольно эту уникальную (даже на фоне Блока, Маяковского, того же Андрея Белого etc.) заязыковую личность, эту нашу гордость мирового масштаба сами бездумно оттеснили на некую обочину?
По опыту и убеждению автора, так оно и есть. Лишь отчасти — это «наша беда»; нашей нравственной вины (филологов, конечно, и литературоведов прежде всего, но и методологов, философов etc., вплоть до политологов и общества в целом) здесь не меньше.
Пожалуй, главной из этих «вин» пока следует назвать упорное, в течение примерно двух последних десятилетий, сохранение пропасти между лингвистами и литературоведами.
Причем «литераторы» на своем берегу легко минуют понятия языка и идиостиля, а языковедческий берег слишком подавляют необъятная общесемиотическая природа словесного языка и «культурное разнообразие» его функций, чтобы лингвисты могли «соборно» выступить на деле жесткими инициаторами доминантного для всей филологии «наведения мостов». Дел, разумеется, и без этого хватает. Со своей стороны, стиховедение озабочено, например, и трудоемкой статистикой. Лингвистическая поэтика, со своей — не менее трудоемкой лексикографией, обнаруживая стремление самостоятельно возвыситься до «лингвистической эстетики». При всем этом есть же у нас и замечательные настоящие филологи по обоим берегам зияющей пропасти...
В этих условиях, в той или иной мере, постепенно стали особо остро ощутимы «дискриминация и апартеид», которым Веха подвергается там, где он прямо-таки просится как полноценный и незаурядный участник многих распространившихся в СМИ «разговоров» на общие темы Культуры или «итогов XX века» и более конкретные — «Серебряного века», «авангарда» etc. Если б о Вехе молчала только явно «неинтеллигентная интеллигенция» — куда ни шло. Но и лучшие наши «ведущие», журналисты да и литературные критики, как правило, игнорируют его, явно не зная о нем мало-мальски достаточно и поэтому (невольно?) пренебрегая им. Никакого отклика не вызвал у них и недавний спорный опыт культуролога15.
Василий Розанов, те же Набоков и Бродский, Георгий Иванов, более-менее очевидные зиц-автопародисты Дмитрий Александрович Пригов, Константин Кедров и маститый академик Анатолий Тимофеевич Фоменко (запросто «схлопнувший», к вящей радости слепо верующих, хронологию всей Культуры16) пока интересуют СМИ куда больше, чем «загадка» Хлебникова, которая занимала Тынянова и Мандельштама, Наума Берковского и Владимира Маркова, но и сегодня остается загадкой культурологии. Между тем последней давно уже стоило бы переосмыслить, обратив к себе, и вопрос Хлебникова «Гонимый — кем, почем я знаю?» (Твор., 77; 1912), и его же слова о «литературоведческом береге» пропасти в стих. «Саян» (Твор., 128; 1920–1921):
И пропасть что ему молчала
Пред очарованной горой? —
и то стихотворение «Одинокий лицедей», с которого мы начали, — можно сказать, набатное для всех, кто подводит сейчас «духовные итоги» века.
* * *
Пренебрежение к Вехе оборачивается и пренебрежением к Мандельштаму.
В январе 1937 года, в самый канун или разгар работы над («Одой Сталину»), Осип Мандельштам написал известное стихотворение:
Средь народного шума и спеха,
На вокзалах и пристанях
Смотрит века могучая веха
И бровей начинается взмах.
Неясно, знал ли Мандельштам, что Веха — псевдоним Хлебникова в 1918 году (Твор., 708–709). До тщательного сопоставления процитированного стихотворения и ряда других стихотворений из окружения «Оды» с поэмой Хлебникова «Ночной обыск» (кто возьмется за эту работу?) мы не можем уверенно говорить и о том, что такие детали «портретов Сталина» у Мандельштами, как могучие глаза мучительно добры и бровей начинается взмах, напрямую связаны с образом Русалки (или/и «Числобога») — alter ego Хлебникова в его поэме (в устах моряка Старшого):
Русалка
С туманными могучими глазами, —
и иконным ликом там же. От этого лика моряки ждут взмаха ресницами, — и он в самом деле «взмахивает» ими, как птица крыльями (Твор., 329, 327), пророча гибель святым, как они думают о себе, убийцам17.
Тем не менее есть достаточно иных оснований предполагать, что после бесед с Хлебниковым весной 1922 года в Москве у Мандельштама начали все шире раскрываться глаза на смысл творчества Вехи и весь образ этого ранее не очень близкого ему поэта.
Если так, то и слово веха у позднего Мандельштама не должно рассматриваться историками литературы исключительно в «сталинском контексте», а строка в стих. «Где связанный и пригвожденный стон?..»:
Он эхо и привет, он веха — нет — лемех18 —
заслуживает особого внимания и потому, что специалисты по Мандельштаму минуют вопрос о том, кем же может оказаться здесь этот он. Стоит лишь допустить, что личные и указательные местоимения у Мандельштама в 1937 году тайно облечены и не совсем обычной в поэзии «двойной» функцией (а ведь местоименная неопределенность есть и у Вехи: «Ладомир» и др.), — и уже на этом этапе появляется идея особой близости Мандельштама к Хлебникову. Возможно, кто-то скажет, что эта (еще проблематичная) близость «вершин будетлянства и акмеизма» если и крепнет, то уже в очевидно «поставангардном» пространстве. Но в ответ возникает мысль о том, что в «авангардном» XX веке следует различать два «авангардных» течения: АВАНГАРД и авангард — и о еще длящемся (при временном торжестве полустёба), пусть латентном периоде «настоящего Авангарда»19.
Часть 2
Прежде чем чуть подробнее коснуться здесь сюжета «Хлебников и Авангард», невозможно не затронуть некоторых спорных проблем «полистилистики» и «полижанристики». Уникальное множество идиолектов — художественные и иные «языки», с которыми работал Веха, — более-менее известны, как и его опыты «смешения» жанров и стилей.
Постмодернистская расхристанность и в этом отношении не имеет ничего общего с настойчивыми поисками и глубокими находками Вехи. Чего стоят одни только его «сверхповести» и «сверхпоэмы» или рукописи «Досок судьбы».
Менее знакомы филологам его «монтажные» приемы и функции взаимодействия у него внешне довольно разных, но единонаправленных дискурсов20.
Почти вовсе не изучены Хлебников-публицист, Хлебников как литературный и художественный критик и вся — открыто или скрыто критическая и разнообразно полемическая — последовательно «оппонентская» основа его идиостиля.
Та же первая сверхповесть Хлебникова «Дети Выдры» вобрала в себя, кажется, все возможные тогда в литературе жанры и стили — начиная от героического орочского («орочонского») мифа и сказаний об Александре Македонском, включая воинскую повесть в духе «Тараса Бульбы», лирические монологи, фарсовые сцены и кончая шутовским по видимости диалогом (Ганнибала и Сципиона) в царстве мертвых на темы современности (подрыв учений «Чарльза и Карла»), коллективным воплем разнообразных «духов великих», призываемых на помощь «бедствующему» автору, и элементами пародии на своих сподвижников и себя самого (ср. появление терцин в стихотворении «Змей поезда» и влияние перевода Алексеем Константиновичем Толстым баллады «Эдвард» на стихотворение «Семеро»).
Поэтому в мысленном эксперименте, скажем, по-разному важные для Вехи имена Гайаваты, Гурриэт эль-Айн, Христа, Нансена, Давида Бурлюка и Ленина вполне непринужденно могли бы сегодня под его пером обнаружиться (без какой-либо эпатажной цели, а по необходимости искомых поэтом сходств и различий) в одном контексте (или, возможно, «сверхтексте») с Сахаровым, Пригожиным и принцессой Дианой, Александром Солженицыным, Булатом Окуджавой и Галиной Старовойтовой, ЧВС, Кириенко, Примаковым и Скуратовым. И показывал бы он их действительно вплотную и вровень, безо всякого высокомерия, но и без какого-либо жанрово-стилистического или любого иного придыхательного подобострастия. Свободно «смешивая» стили и жанры и таким образом невольно эпатируя властителей «общественного вкуса» (и в наше «имлийское» время), его «полистилистика» вместе с тем не без ошибок, но неплохо разбиралась в вопросе по существу: «Кто есть кто?»
Культурно-исторический круг интересов Вехи не только не противостоял политологическому, но постоянно пересекался с ним.
«Разговорной», то есть диалогической, основе идиостиля Хлебникова, в котором, по точному замечанию Мандельштама, многое восходило к «пушкинской болтовне», и раньше противостояло, и сегодня противостоит другое — «монологизм», кто бы его ни проявлял: от Николая II до Михаила Сергеевича Горбачева, Бориса Николаевича Ельцина, Юрия Михайловича Лужкова etc., от старых до новых думцев, от ОЛЯ РАН и РГГУ до Сергея Доренко или Никиты Михалкова... Жесткая жанровая и стилевая дифференциация, все еще сохраняющаяся в нашей «массовой» vs. «специальной» печати, с их темниками и «партийным монологизмом», дополнительно объясняет силу потенциальных оппонентов Хлебникова, на деле нисколько не заинтересованных в диалоге с ним. Конечно же, не один только Веха испытывал органическую потребность в Оппоненте, а не в тех оппонентиках, что могут лишь провещать о нем нечто непрезентабельное — и немедленно переходят к «очередным делам». Но, кажется, он испытывал ее постоянно, как бы «природно», и сильнее, чем другие. По этому признаку Хлебников и оказывается интеллигентнейшим первоумнейшиной. Для нашего века уже одно это было и остается чудом.
Обнаружив у Вехи склонность к «смешению» — предметному, жанровому и стилевому метабиозу, то есть смене «здесь и сейчас» темы и угла зрения на объект (ср. Успенский21 и строчки «Воззвания...»: Вы недовольны, о, государства / И их правительства — Твор., 611), велимироведы в той или иной мере оказываются перед аналогичной проблемой собственного «языка и стиля».
Проникновению в многомерное творчество Вехи препятствуют архаические взгляды «большой печати» на строгие нормы стилей и жанров и якобы запретные предметные области (как если бы то же искусствознание было вне общих для всех забот, проблем политики etc.).
Это также мешает выявлению сути идей Хлебникова, и она предстает перед обществом обуженной, а то и искаженной. При этом практика ТВ, разномастных газет, да и солидных журналов легко допускает довольно-таки панибратское похлопывание по плечу поэта-мыслителя, упоминание имени Вехи мимоходом, как бы в рассеянии22; Вехе заметно недостает и хороших публицистов, те же фигуры умолчания.
Свежий пример этих последних. Кажется, давно показана ошибочность представлений Виктора Гофмана и Григория Осиповича Винокура, в 1930-е и 1940-е годы считавших, что «основным содержанием» (!) поэзии Хлебникова является язык23. И вот в 1997 году бесстрастно, без тени сомнения в истинности еще более сильного и странного тезиса цитируются «Лекции» Набокова: мол, «всякая великая литература — это феномен языка, а не идей»24. Методологию и логику подобных хлестких НЕ/А Хлебников отвергал еще будучи студентом Казанского университета, отведавшим там и «воображаемой логики» Николая Александровича Васильева. Но что такое безумный Будетлянин25 в сравнении с «самим» Набоковым (или же Бродским и всей «Академией мировой элиты»26)?
Парадигма Хлебникова по-прежнему оказывается в состоянии «круговой обороны». Поэтому велимироведу так трудно удержаться от желания во многих случаях «бросаться в бой на защиту Хлебникова». Слишком уж часто приходится, хотя бы и в одиночку, вступаться за него, оберегать его от беззастенчивых нападок, элементарнейшей некомпетентности, того же «окамененного нечувствия». Ниже в настоящем издании читатель найдет несколько случаев «защиты Вехи» от грубых или, наоборот, элитарно-изящных унижений (на радость обывателю или/и некоему избранному «культурному сообществу»).
Но см. и эпиграф к этому тому. Ограничимся подходящей здесь общей констатацией, воспользовавшись, возможно и небесспорными, словами незаурядного музыкального критика (внука такого лингвиста, ученого и педагога, как Александр Александрович Реформатский). И сегодня Хлебников существует где-то вне «выбора между, условно говоря, Ильей Глазуновым и Казимиром Малевичем, иными словами, между искусством для массового вкуса и искусством для искусства»27. Вехе нужна какая-то иная шкала. Так что недостаточной кажется и смелая — под пером искусствоведа — оценка вклада Хлебникова в мировую культуру как «не меньшего, чем вклад Малевича или Кандинского»28.
Часть 3
Маяковский, «будетлянин-отступник», тем не менее в 1922 году догадывался, в некрологе Вехе, что его «поэтическая слава» не может служить мерой его «значения». У любого скепсиса (недоуменного, высокомерного, предвзятого, ограниченного, ленивого etc.), как и у моды, кажется, есть свой «период полураспада»29. Mysterium tremendum («трепет перед тайной», по Василию Зеньковскому) испытывают перед Вехой все больше людей и у нас, и за рубежом. От покойного патриарха современного развитого итальянского велимироведения Анджело Марии Рипеллино (чтобы обозначить лишь одну из многих «овелимиренных» стран Европы30) до Xенрика Барана и Рональда Вроона (активно работающих известных ученых США). Этот трепет разнообразен и, возможно, не всегда осознаётся. Но ощущение какой-то не дающейся в руки тайны личности распространено и среди тех из «рядовых» читателей Вехи, пока не очень многочисленных, кто уже находится под обаянием эстетики его стиха, и среди переводчиков, профессионально и напрямую сталкивающихся с проблемой глубинного смысла творчества Хлебникова.
Примерами переводческих опытов могут служить плодотворные усилия Анны Каменьской, Северина Поллака, Яна Спевака и Адама Поморского (Польша), Нильса Оке Нильссона (Швеция), Петера Урбана (ФРГ), Веры Николич и Боры Чосича (Югославия).
Большие усилия для адекватной передачи на родном языке, в частности, смыслов «Зангези» приложили Акош Силади (Венгрия), Пол Шмидт и Шарлотта Дуглас (США), Карла Соливетти (Италия). В начале 1999 года в Бухаресте вышли «Opere alese» Вехи в переводе Александра Иванеску. Анализ этих и многих других, не упомянутых здесь, но часто не менее поучительных опытов перевода текстов Вехи представляет собой еще одну проблему и задачу31.
Таким образом налицо и некоторая обратная «всемирная отзывчивость» на творчество Хлебникова. Тем неотступнее велимироведа преследуют вопросы: в чем же причины того, что у себя на родине Хлебников остается фигурой второго плана? Почему он маргинализован, а не «национализирован» как некое ценнейшее народное достояние и (всюду слышимое) «духовное наследие»? Ради чего его «разводят» и с Пушкиным, и с Блоком, и с Пастернаком, и с Бродским, помещая Веху по ту сторону какого-то невидимого барьера? Чем объяснить полное невнимание «культурного сообщества», например, к такой публикации введения к «Доскам судьбы», как у Арензона32? Дело ведь не в том, чтобы Веху ввести в обойму модных писателей. Дело — в осознании причин апартеида, пусть не злобного, а лишь привычного и застарелого. Дело в том, чтобы отстоять право Вехи на равнебен — на то, чтобы попытки рассматривать его творчество вровень с любым другим не отводились, под шаткими предлогами, как нарочитая апологетика, панегирическая мысль и заведомые акафисты33.
Вероятно, типология причин небрежения к Вехе могла бы представить немалый интерес для культурологов и психологов. Но самые разные мотивы неприятия Будетлянина на практике слиты в едином потоке-половодье. И мы не станем здесь противополагать друг другу в этом наводнении так наз. субъективные и объективные факторы. Они не так уж дискретны, и перед нами действительно «клубок причин».
На первом месте, возможно, — элементарная человеческая лень (будущее уходит от лени, предупреждал Веха). Казалось бы, «век кризисов», включая кризисы в ООН, в системе послевоенных отношений между государствами пространств, в СНГ и НАТО после краха СССР, в среде нового поколения отцов российской демократии etc., должен привлечь внимание к государству времени. Но нет, идеи Вехи, «страшные» своей необычностью, отпугивают, как когда-то пугала прошлецов сегодня почти тривиальная глупая вобла воображения у Маяковского. Наше время не готово обсуждать эти идеи всерьез даже как «утопии». И даже великий Колмогоров, знавший немало строк Вехи наизусть, остановился перед ним в некотором недоумении, ограничившись естественным правом на нелюбовь к любому этому поэту (его языку и мысли? эстетике? этике? воображению? мере? — Нет ответа34).
Харьков и Баку — города славы Хлебникова. В его жилах текла и запорожская (а также армянская) кровь. Но культурологи Украины и Азербайджана пока недалеко ушли от русских и российских, а краеведам и иным культурным силам Астрахани и Казани, Калмыкии и Ульяновска, Дагестана и Урала, обеих наших столиц, Нижнего и Великого Новгородов, Саратова и Ставрополья (не говоря уж об Иране и, по другим основаниям, о Сибири и Дальнем Востоке) или не до Вехи «как целого», или вообще не до него.
Интерес к «беспредметности» и «абсурдизму» теснит непривычный, но вполне предметный мир Хлебникова. «Стиль вольной мысли» искреннего Вехи тонет в беспределах и симулякрах постмодернизма, а до излюбленного им «стиля свободной дискуссии» общество, видимо, еще не доросло (при всех призывах со стороны социологов; Юрий Левада и др.). По Артуру Лурье, в Хлебникове не было ни грана «буржуазности» — Александр Кушнер готов защищать «буржуазность» Анненского. Нападая на «фрагментарность» Хлебникова, его «незавершенку», часто оставляемые им «строительные леса» текста и неизбежные — на пути к новой гармонии — «дисгармоники», упускают из виду такой фундаментальный в искусстве принцип, как non-finito, и слова позднего Мандельштама о «кусочках», которых уже достаточно для того, чтобы афоризмы Вехи просились на «медную доску». И разве не показал юбилей Пушкина, что его творчество разлито в народе прежде всего отдельными строками, образами, афоризмами, сентенциями? Возводить же парадигму или только словотворчество квазиархаиста Хлебникова к опытам Шишкова, хоть и пошло, но, разумеется, спокойнее, чем по-новому, без предвзятости сопоставлять целостные миры гениев русской словесности, забыв на время о достойном адмирале. Добавим сюда лавину иных предрассудков, инерцию моды, стойкий культ Николая Федорова35 и культ развлекаловки, игрищ и профанацию высокой Игры, низведение эвристики в искусстве до басенных лягушиных потуг в погоне за «новым», самоуверенность, самодовольство etc., характерные для многих интеллектуалов, их зашоренность на специалитетной, «флюсовой» делянке, социальную глухоту и «вечную мерзлоту» властителей не столько дум, сколько экранов, журналов и газет. Митрофанов и Киркоров, Пригов и Брынцалов, Курицын etc. — «герои дня» и «звезды» пользуются спросом. Строки Вехи: Еще раз, еще раз / Я для вас — / Звезда — меркнут на фоне их имен и ликов, их «ки(т)ча» или назойливых «Еще раз» в устах не одного только ЧВС.
Пожалуй, Хлебников слишком крупен, слишком отличен и как поэт-мыслитель, и как поэт чувства от созвездия уже освоенных за долгие годы поэтов чувства и разума, чтобы его язык, его мысль в многомерной системе «осад» могли быть охвачены одним-единственным сознанием даже самого великого читателя и такого же (еще не родившегося?) исследователя как-то мимоходом, а не планомерной осадой существа творчества Вехи.
Да мы пока и не знаем всего его наследия. А много ли найдется готовых провести годы в архивохранилищах? И мы еще не осознали, какой тяжелый удар велимироведению нанес (невольно?), уходя от нас, Николай Иванович Харджиев тем, что закрыл на 25 лет доступ к рукописям Хлебникова из своего архива. Держатели других рукописей Хлебникова не слишком спешат ввести их все в научный оборот.
Недобрую роль в течение многих лет играли и, прошу прощения, перебранки среди самих отечественных велимироведов, и любители себя в Хлебникове. Ни одна из наших институций не «рекламирует» Будетлянина, а соотнести с ним вне всякой «рекламы» глубокие идеи таких прославленных деятелей века, как, скажем, Чехов или Честертон, почему-то все недосуг36.
Будетлянина неоднократно предавали при жизни и после его смерти. Порой даже кажется: это не очень хотят замечать и оценивать и потому, что в конце века уже вся Культура подсознательно ощущает свою виновность перед своим поэтом.
И то сказать: до мыслителя ли Вехи, если и мыслитель Чехов (а не еще один писатель, автор пьес etc.) не так уж хорошо Культурой расслышан и освоен. Изваяние Вехи своей работы Вячеслав Клыков установил в районе первоначального захоронения поэта (якобы на так и не найденной ранее его могиле), вопреки воле Мая Петровича Митурича — племянника Хлебникова37. Это показательно как торжество «культурного» беспредела и мародерства, спокойно принятое обществом. «Два брюнета и толстый актер» — невинные мародерчики в чеховской «Попрыгунье» — к концу века забронзовели, став оплотом окрепшего «мелиемельского мавродеризма».
Со всех сторон раздаются призывы к здравому смыслу — Главздрасмысел Веха явно видится разоблачителем смысла, который обходится без нового языка, и потому в союзники не привлекается. То же можно сказать о любви к идее «странных сближений»: столько раз их поминали в дни пушкинского юбилея, что они по инерции подавили мысль о Нестранном сближении — Хлебникова с Пушкиным. Никому она не пришла в голову — ни Александру Архангельскому, ни Игорю Виноградову, ни Валентину Непомнящему, ни Леониду Парфенову, ни «Эху Москвы», ни «Русской мысли», ни толстым журналам. Причина: в самом светлом поле общественного сознания образа настоящего Хлебникова-Будетлянина нет как нет, хотя свидетельства глубокой близости Вехи с Пушкиным представлены уже довольно давно.
А причина этой причины? Обычное равнодушие? «Месть» сегодняшнего энглизированного общества поэту за отказ от «западного» корнеслова? За (мягкую!) иронию над янки, которые носят штанами звездное небо, над англоязычной Темзой, где серая скука («Единая книга»; Твор., 466)? Или, может быть, страх, что из Хлебникова как «поэта с историей» (по Цветаевой) некто захочет учинить подобие нового национального мифа, а то и «национальной идеи»? Так что, может быть, здесь проглядывает даже сочувствие Вехе: как бы жемчуга с любимых мною лиц нам не пришлось узнать на уличной торговке! («Всем», 1922). Упомянутые множащиеся «раскрутки» пошлых мистификаций, связанных с именем Хлебникова? И все-таки не пресловутая ли наша «партийность»? В чересполосице нынешних партий, движений и ориентиров «партийность» Хлебникова выделяется славным противоречием между этимоном-основой pars, -tis ‘часть’ и обращенностью Вехи к Целому, Единому, Всему.
Есть, кажется, две очень серьезные причины неприятия Будетлянина (опять же не говоря о священнейшем праве на эстетическое неприятие поэта; при не слишком приятной обязанности эксплицитно мотивировать свою позицию за пределами группы единочувственников, где позиция может потребовать и серьезных корректив). Первая — двойная: рынок, эта, на сегодня, говорят, «естественная форма человеческого общежития» (из газет), и Ленин. Веха клеймил приобретателей, от имени изобретателей, а в «Ладомире» — и банковскую систему, замки мирового торга, готовый, как и «проклятьем заклейменный», их «обратить однажды в пепел». Каково это читать сегодня любым «рыночникам»? «Государственникам» безрыночное государство времени — тоже «не в масть»: им оно в лучшем случае покажется смешным. Слова, бичующие жаркие соблазны выгоды, не могут не оттолкнуть от Вехи не одних узко понимаемых «новых русских»38, но и почти все новые номенклатуры, аппаратчиков, чиновничество. Это касается как «правых», так и большинства квазилевых: потенциальные «антиВеховцы», они сомкнутся в трудно дифференцируемом единстве против Хлебникова, этой кости в горле для «политического класса России» (Михаил Соколов). Сплотит свои ряды против него и элитарное приобретательство: подумать только — Веха, этот противо-Разин (стих. «Я видел юношу-пророка...»; 1921), исповедовал начало противоденег (СП, 5, 162, 308) еще в 1915 году!
С Лениным дело обстоит не лучше. Одни не простят Вехе полемику с ним «на равных», другие, наоборот, подумают: да о чем вообще имело смысл всерьез спорить со злодеем «Володькой»... К тому же на «поклонение» Хлебникова единству как бы бросается тень и от «единства мира в его материальности», и от «народ и партия едины» — идеологических вариаций тех обвинений Вехи в будущем тоталитаризме, о которых у нас уже шла речь.
Так поединок с приобретателями и прибоем рынка (даже в годы нэпа), полемика с Лениным, «большевизм» и мировидение Вехи отвергаются поодиночке в разные пореволюционные годы, а сегодня — на уставший от «нестабильности» взгляд — обманно выглядят голыми фантазиями или маргинальным чудачеством небесталанного и вообще-то более или менее симпатичного бессребреника, но «с приветом». Нам бы разобраться с Сахаровым и Солженицыным, издать бы все то, что касается «большой четверки» («большой десятки»?) поэтов «Серебряного века», узников «философского парохода», Малевича, Кручёных, Гуро... А как отстали мы от Запада: сколько замечательных мыслителей надо переводить! В свое время дойдут руки и до Хлебникова. Тогда-то его беспокойным любителям и покажут истинное место Вехи где-то за спинами очевидных светочей культуры. И эта «очередность» — не совсем прихоть и не просто конъюнктура: причин для «оттяжек» более чем достаточно, и необыкновенная эстетика (отдельного слова, звука, числа etc.), как мы видели, — возможно, и не самая главная.
Другая причина еще острее и показательней, но не столь очевидна. Это — «Хлебников и религия». Здесь переплетены сложные и часто довольно деликатные соображения39. И поздний Веха вполне терпимо и с уважением отнесся бы, например, к вере в «провиденциальное задание» богоизбранной России, получившей от Господа самую высокую из всех возможных миссий40.
Но «вера в меру» у Хлебникова снимает оппозицию «рождественской» (на Западе) и «пасхальной» (для Востока) культур41, а добровольный костер из вер в стих. «Единая книга» как бы противостоит каждой отдельной вере во всем множестве остальных реальных верований. И это «как бы» превращает Хлебникова в такого «Оппонента всех», который нежелателен, вредоносен и неприемлем для нетерпимых. Спокойнее — не обращать на Веху внимания.
Пока мы настойчиво реставрируем формулу «православие, самодержавие, народность», а это позиция и Фонда культуры, называемая независимостью «в политическом отношении» (ср. неологические опыты Хлебникова; намодержавие и нашедержавие), или закрываем глаза на последствия такой пропаганды под киношным, мэрским и тэвэшным соусом, у православного по рождению, но отпавшего от «истинной веры» поэта-вольнодумца нет никаких шансов услышать полноценный Диалог настоящего Авангарда с «просвещенным консерватизмом» и «поборниками русскости»42. Их нестранное сближение с «нопасаранцами» возрождает зловещий сегодня тезис великого писателя: «Атеист не может быть русским человеком, атеист тотчас перестает быть русским», — блестяще опровергнутый не менее русским, русским до глубины костей, антинационалистом (и «атеистом», по Достоевскому?) Вехой43. Он тоже может быть назван «всечеловеком», если вспомнить слово, которое Достоевский применил к Пушкину, но будетлянские пушкиноты и ночь, что смотрится, как Тютчев, придали бы квазитермину всечеловек еще более объемный смысл, умноженный культурой (включая науку) XX века.
* * *
Хронотоп замечательных слов Анны Каменьской, вынесенных в этой статье в эпиграф, все-таки существенно ограничен, Веха нуждается в значительном расширении контекста: имени Русь — до материка и всего человечества, имен Ахматова и Цветаева — до всей мировой культуры XX века, не оторванной и от веков-предшественников. Речь идет не только и не столько о множестве поэтов и многообразии поэтик, сколько о духовных завоеваниях века в их целом44. «Два века ссорить не хочу», но и веку Пушкина не подведены пока настоящие итоги, а его глубокие «Лики» не выявлены в общей системе представлений о принципах, связанных с творчеством мыслителей класса Гете и Гегеля, Дарвина и Маркса, Торо и Уитмена, Достоевского, Толстого, Бакунина, Лобачевского, романтиков и символистов, импрессионистов и позитивистов, Кропоткина и Короленко etc.
Что из того, что мировое признание Достоевского, Толстого, Чехова «выше по рейтингам», чем Пушкина? А если искать «независимые» и от языка рейтинги десятка «художников», десятка «ученых» и десятка «мудрецов» века? Они пересекутся? В XIX веке Пушкин действительно был образом «нашего всего», но система принципов Пушкина (и его языка) в проекции на творческие принципы (и язык) его современников и мыслителей все новых поколений динамична.
Оценки поэта-мыслителя со временем неизбежно меняются. Он вынужден управлять языком ради заязыка своих принципов.
Лишь до какой-то точки, какого-то потолка «язык управляет поэтом» (Иосиф Бродский), это — общелитературный национальный язык. Принципы и эвристика поэта-мыслителя, поэта-мудреца, в отличие от впечатляющих вкладов в экспрессемы и демонстративных эпистем вполне достойных поэтов-интеллектуалов и поэтов-эмоционалов, зависят от языка иначе: ими управляет прежде всего что-то, что можно было бы назвать межъязыковым сознанием45. В этом смысле «непереводимый» Пушкин предстает как один из главных «принцепсов» своего (да и нашего российско-советского) века. Веха, как хочется подчеркнуть, остается едва ли не главнейшим принцепсом века двадцатого.
По существу, принципам, или началам, Хлебникова посвящена вся эта книга, хотя идея «принципов XX века» сложилась у автора сравнительно недавно. В разных местах отдельных наших публикаций речь идет о сопоставлении самых разнородных, на первый взгляд, принципов, даже за формулировки которых их провозвестники часто не отвечают. Вот примеры «принципов»: «принцип интеллигентности» Чехова, «принцип помощи делом» Фритьофа Нансена, «принцип ненасильственного сопротивления» Толстого и Ганди, «принцип самоограничения» Петра Кропоткина, «принцип преклонения перед жизнью» Альберта Швейцера, «принцип относительности» Альберта Эйнштейна, «принцип дополнительности» Нильса Бора, «принцип красоты» Поля Адриена Мориса Дирака, а также, конечно же, как и многие другие, довольно древний, но в рамках (нео)позитивистской парадигмы заигравший по-новому «принцип интуитивного озарения» (ср. идеи Роджера Пенроуза), «принцип открытого общества» (от Карла Поппера до Джорджа Сороса и др.) etc.
Обнаруживается некоторое «поле принципов», система и структура которого неясны, так что, по Бору, уже поэтому они не могут претендовать на полную и даже сколько-нибудь продвинутую истинность46. Но ведь наша задача — лишь указать на существование филологической задачи для «неалгоритмического интеллекта». Так или иначе, но упомянутые нами принципы, кажется, хорошо коррелируют с известной и неясной разве что в деталях системой принципов Вехи: «принципом разговора», «принципом единой левизны», принципом «самовитого слова», воображаемой историей и государством времени Хлебникова, которое в поле его принципов выступает, если угодно, как важный синоним всеобщего «гражданского общества», независимого от государств пространства47. Заметим, что идея государства времени посыпала нафталином и даже похоронила с почетом любые проекты ограниченных «национальных идей» в развитых обществах (но только «в принципе»: реальность его не слышит). Ср. также судьбу «экологического принципа», воплощенного в образе «бабочки Хлебникова — Брэдбери», но не бабочек Набокова48.
Попробуем пойти дальше и обозначить идею «новейшего» поля принципов. Здесь могут быть названы такие имена, как Мартин Бубер («принципы Отношения, Диалогизма и анархической мысли», почти совпадающие с тем, что особо дорого было и Хлебникову), Александр Исаевич Солженицын (не осознанная им, но явная близость писателя-мыслителя к Вехе по ряду «принципов»49 особенно любопытна), Андрей Дмитриевич Сахаров («принципы конвергенции, „межрегиональности“» и др.). Упомянем и другие имена, видимо, менее известные: Яков Семенович Друскин («принцип религиозного сомнения»50), Сергей Викторович Мейен (он предложил «принцип сочувствия»51), Сергей Сергеевич Хоружий (новое обоснование «принципа обóжения»52). Связи между именами и «принципами» в их общем поле как минимум тернарны, они осложнены рядом модальностей, «презумпцией возможной собственной неправоты», а кроме того, идеями их естественной динамики, особой «коэволюции» etc. и деятельностью таких «знаковых» фигур и имен XX века, как Владимир Иванович Вернадский, Римский клуб, Илья Пригожин, мать Мария, мать Тереза, Януш Корчак, Мартин Лютер Кинг, Greenpeace...
Так складывается разобщенное пока сообщество «новых и старых» предземшаров XX века. Понятно, что в него могли бы войти и критики (Чехова, Вехи etc.), но лишь те, кто реализует себя как «Оппонента по Мейену». Предземшары — это не чья-то «команда», собираемая правителем или политиком накануне выборов, — это, вспоминая раннего Хлебникова, голос земли: О, дайте мне уста! Уста дайте мне! (Твор., 579; ст. «Курган Святогора», 1908). Так возникает и ширится (?) негосударственная, но Общественная тень ООН — упомянутое теневое правительство всея Земли из неуков (Твор., 359; «Уструг Разина», 1922), непокорных, в духе и образах Вехи, коней Пржевальского53. Тень — важное слово Хлебникова. Еще до идеи предземшаров в наброске «Сон» его занимал вопрос: Возможно ли так встать между источником света и народом, чтобы тень Я совпала с границами народа? (СП, 4, 74). Тень и не могла не охватить незаметно весь Земной шар, а частные, но значимые опыты Хлебникова со словами лгавда, вружба, стыдеса, другие фундаментальные для него понятия (ср. неологизм равнебен) — не получить независимого, уже не словотворческого, но категориального, хотя и монологического развития в призыве «жить не по лжи» и общем пафосе позднего Солженицына.
* * *
«Кто является Пушкиным наших дней? — Маяковский. Кто — Толстым? — Шолохов» etc. — насколько помню, может, и не столь прямолинейно, но спрашивали себя и нас и за нас же не одно десятилетие отвечали разного рода «гиганты мысли и ювелиры формы» (Евдокия Михайловна Галкина-Федорук). И вот в дни пушкинского юбилея опять не дает покоя старая заноза: ищут фигуру, «сущностно сродную» Пушкину (Михаил Соколов) — и ведь правильно делают, — но не находят. Не нашлось ее и среди «Ликов столетия», представленных акад. Юрием Поляковым и «Независимой газетой» как «общая смазь», вне эволюции вкусов, вне «духовных доминант», то есть «принципов» начальных и завершающих десятилетий века54. В этих условиях почти ожидаемым парадоксом прозвучало заглавие яркой статьи «Наследие без наследника» (Александр Архангельский. Изв., 5 июня 1999 года), отметившей юбилей. Не прибегая к встречным парадоксам, подчеркнем имена двух наследников: Чехова (или он — не «и XX век»?) и Хлебникова.
Мимоходные апологеты Будетлянина мирно уживаются с его апартеидом по инерции — настоящих же апологий Вехи, защищающих его творчество от непростительного забвения или/и дешевых нападок, в СМИ практически нет.
Верный угол сердца к поэту-мыслителю (Твор., 182; стих. «Еще раз, еще раз...», 1922) Культуре никак не удается взять. И опять, и опять мы вместе с пятой властью разбиваемся о камни, / О подводные мели, вместо того чтобы прочитать наконец (где?) спокойное — в самом деле sine ira et studio — «журналистское житие» Вехи, в котором было бы учтено (среди всего первостепенного и прочего) также и немаловажное в устах Вячеслава Иванова свидетельство о «святости» Хлебникова. (Ср. полезный опыт С. Санкиной55).
С некоторых пор более-менее известны основные периоды его творчества и грани, отмечающие сущностные перемены в движении его идиостиля. Это 1904–1905 годы (война и революция), 1908–1910 годы (первые публикации, разрыв с «Аполлоном», начало сближения с будущими «гилейцами»), 1916–1917 годы («Воззвание Председателей Земного шара», две революции), конец 1920 года (вслед за «Ночью в окопе», «Ладомиром» и стих. «Единая книга» открытие основного закона времени). Посмертное инобытие его идиостиля связано и с беседами Хлебникова и Мандельштама в Москве весной 1922 года, а затем пятнадцатилетним вживанием Мандельштама, практически в одиночестве, в творчество Будетлянина. Это только несколько вех для обсуждения56, и конечно, это — «мой Хлебников». Но у него мне все отчетливее слышится и «поступь нового века» — уже не того, прихода которого ожидали Блок и Андрей Белый сто лет назад.
Пушкинская и блоковская парадигмы в литературе живы и сейчас, но явно недостаточны для всего того, что не только встречает, но и провожает нас на сломе тысячелетий. Хотелось бы стать свидетелем начала торжества Хлебникова и его парадигмы уже в 2001 году. Но этого не случится, если мы вступим в новый век без нового и более полного ответа на оставленный нам юбилеем вопрос «Что такое Пушкин?» (Игорь Виноградов) и не зададимся смежным вопросом «Что же такое Веха?» уже сейчас. Понятно, что Гоголя лишь в очень узком «самовитом» смысле и вполне условно Федин мог назвать «будетлянином» XIX века. Но без всякой условности и остро встает вопрос: «А каким может/должен быть „Будетлянин XXI века“?» Или мы не ощущаем пока потребности в новом Лобачевском художественной (и научной) мысли? «Новом Пушкине» и «новом Будетлянине» в одном лице? Кстати, много ли лет осталось до стодвадцатилетия Вехи, этого Волеполка — этого очевидного антипода «Святополков окаянных»57? Будем все же надеяться, что «окамененное нечувствие» в отношении к Вехе въелось в нас не слишком глубоко.
Слово чудо, которым мы старались не злоупотребить, разумеется, сильно скомпрометировано сегодня разного рода «мирами чудес» (Анжелики Эффи etc.). Пошлость была врагом не только Чехова, но и Хлебникова. Что такое «чудо» — это в конечном счете вопрос соглашения. Что такое шлягер на страшный текст Мандельштама о «кандалах цепочек дверных» — уже не только вопрос о вкусе Аллы Пугачевой и чувстве стыда у поклонников ее культа. Но тому, что на слова «Призраков» Хлебникова (СП, 2, 184–186) группа «АукцЫон» исполняет хит, велимироведу остается только радоваться. В основание предстоящего нам «культа Хлебникова» он может положить разве что свою медаль «За отвагу» (за бои на Новгородчине в 1943 году), завещая ее музею Хлебникова в Астрахани и тем самым отмечая таким доступным и непритязательным способом память о «человеке подвига», беззаветную смелость и самоотверженность Вехи (и то если это «не противоречит видам правительства).
Хочется, чтобы люди прониклись духом, значением и формой хотя бы двух неологизмов Хлебникова — пугающим у слова Никогдавль (СП, 3, 73; стих. «Леляною ночи...», 1920; ср. никогдавель — Твор., 436; «Зангези») и нежным у слова Снежимочка (Твор., 381; «Снежимочка»; 1908). Чтобы Общество прониклось задачей «явления Вехи народу», чтобы его «Начала» были всесторонне рассмотрены в качестве кандидатов в культурологические «Заповеди» нового времени.
Когда-то так и не была написана о Вехе статья «Семантика vs. эстетика» (но см. тезисы [Григорьев 1997]). Сегодня Хлебников вызывает желание обсудить тему «Эстетика vs. гносеология». В 1960-е годы был выдвинут и такой аргумент против «структурализма»: «В ответ на слова „мне это чуждо“ бесполезно протягивать человеку папку с математическими выкладками, надежно удостоверяющими художественную ценность произведения искусства»58. Но даже если нам «не чужды» 10–20 текстов Хлебникова, это не означает, что мир Вехи открыт для нас. Пожалуй, и сто «лучших», на чей-то взгляд, его вещей не решают дела в принципе. И не потому, что остаются еще незавершенные наброски, фрагменты, материалы архивов, «кусочки», значение которых нередко вполне сопоставимо с «каноническими» текстами Хлебникова. Неизмеримо важнее, что остаются нерешаемыми все противоречия между различными нашими глубокомысленными или легкомысленными рассуждениями об этом мире.
Кто готов в этих противоречиях разбираться, догадываясь, что Будетлянин потребует от него всей жизни? Владимир Борисович Катаев недавно опубликовал работу о «сложности простоты», имея в виду Чехова. Не одним лишь велимироведам нужна и «дополняющая» книга — о «простоте сложности» Хлебникова59. Такую «единую книгу» мог бы создать специальный «Институт Велимира Хлебникова» как центр мировой науки о Будетлянине. Но едва ли уже родился властный лоббист подобной идеи, не говоря о потенциальном спонсоре. Пока налицо лишь разрозненные усилия рассеянных по свету энтузиастов и ожидающий издателя набросок «Материалов к спецкурсу „Велимир Хлебников“».
За пятнадцать лет, считая от столетия Хлебникова, в России появилось более миллиона экземпляров различных изданий его произведений, и похоже на то, что спрос далеко еще не удовлетворен. Сильно отставая от него, тем не менее прорастает и потребность общества в Ясности понимания того, что же это такое — Веха. Говорят, путь к культуре лежит через мещанство. Но как взаимодействуют Авангард и авангард, так, видимо, сосуществуют Культура и культура. Однако на огромном пространстве между их полюсами пока что не слышно ни об особом успехе «Призраков» у «АукцЫона», ни об опере «Ночной обыск», или фильме «Ночь в окопе», или клипе «Единая книга», ни о продолжателях опытов Георгия Свиридова или Марка Пекарского, ни о конкурентах Владимира Яхонтова с его театром одного актера или опытов «Чет-Нечет-Театра» Александра Пономарева. Сотни, если не тысячи великолепных строк вводят Хлебникова в поле «великих поэтов XX века», но чтецы, концертные залы и ТВ-аудитории не слышат и десятков, разве что кто-нибудь, мимоходом и перевирая, приведет несколько строк Будетлянина. Мы же в заключение позволим себе, перефразируя академика Сахарова, осторожно предположить, что в XXI веке в России «проживать вторую жизнь» будут и с Пушкиным, и с Хлебниковым.
Так хотелось здесь поставить точку, но жизнь заставляет, полистилистика позволяет, а полижанристика предлагает умерить пафос последней фразы самоиронией и сарказмом из микрожанра «В последний час». Оказывается, «Высшая аттестационная комиссия решила исключить философию из экзаменов кандидатского минимума». Так определили две трети членов пленума ВАК во главе с министрами и академиками60. Что-то теперь будет? Бедный «мыслитель-непрофессионал» Веха! То-то, готовя к печати «Доски судьбы», он не хотел показывать рукопись «академическим кругам» (мы заканчивали соответствующей цитатой «Грамматику идиостиля» еще в 1983 году). Так что если теперь автор не доживет до выхода в свет этой книги, напишите, пожалуйста, на его могильной плите: «Умер от РАН». И, чтобы напомнить также о начале этой статьи: может быть, наш «Логос», такой в хорошем смысле раскованный «философско-литературный журнал», найдет в себе смелость обсудить хотя бы только «травмы рождения», но рождения шедевров-чудес Вехи — этого никем и из философов не видимого «одинокого лицедея»? (Кроме разве Бахтина...)
Так неужели был он «на самом деле» всего лишь таким, одним из многих и многих, каким показал его нам Владимир Смирнов 16 июля 1999 года на ТВ-3? А об Авангарде и месте, которое занимает в нем Веха, «молодое поколение» станет судить по новейшей книге Баевского61?
Что касается высоко чтимых «Известий», то им, уже в «самый-самый последний момент», удалось нанести автору настоящей статьи неожиданный удар предновогодней публикацией. Разделываясь с «фоменкиадой», газета на той же самой полосе и на 95% всерьез воспела президента... «академии астрологии» (Изв., 24 декабря 1999 года, c. 10). В 1920–1930-е годы говорили: «Смена смене идет...» Но Хлебников может торжествовать: какая блестящая иллюстрация к принципу метабиоза!
Условные сокращения
НП — Хлебников В. Неизданные произведения. М., 1940.
ОР РНБ — Отдел рукописей Российской национальной библиотеки.
СП — Хлебников В. Собрание произведений. Т. 1–5. Л., 1928–1933.
Твор. — Хлебников В. Творения. М., 1986.
Список литературы
- [Арензон Е.] К пониманию Хлебникова: наука и поэзия // Вопросы литературы, 1985, № 10.
- Ахматова А. Стихи. Переписка. Воспоминания. Иконография / сост. Э. Проффер. Анн Арбор, 1977.
- Баевский В. С. История русской литературы XX века. Компендиум. М., 1999.
- Белый А. Поэзия слова. Пг., 1922.
- Библер В. С. Национальная русская идея? Русская речь! // Октябрь, 1993, № 2.
- Булатова А. П. Лингво-когнитивный анализ искусствоведческого дискурса (тематич. разновидности — музыка, архитектура). Автореф. канд. дисс. М., 1999.
- Вестник Общества Велимира Хлебникова, I. М., 1996.
- Вроон Р. Генезис замысла «сверхповерхности» «Зангези» (К вопросу об эволюции лирического «я» у Хлебникова). Вестник Общества Велимира Хлебникова, I. М., 1996.
- Григорьев В. П. Словарь языка русской советской поэзии. Проспект. Образцы словарных статей. Инструктивные материалы. М., 1965.
- Григорьев В. П. Хлебников и авангард // Русский авангард в кругу европейской культуры. М., 1994.
- Григорьев В. П. Словарь «Самовитое слово»: семантика vs. эстетика? // Междунар. конф. «Функциональная семантика языка, семиотика знаковых систем и методы их изучения». Ч. I. Тезисы докл. М., 1997.
- Григорьев В. П. Велимир Хлебников // Новое литературное обозрение, № 34, 6, 1998.
- Григорьев В. П. «Заботясь о смягчении нравов...». 1999 (в печати).
- Григорьев В. П. В. Хлебников: Веха, двигава и путь (1999) // Григорьев В. П. Велимир Хлебников в четырехмерном пространстве языка: избранные работы. 1958–2000-е годы. М. : Языки славянских культур, 2006.
- Григорьев В. П. «Безумный, но изумительный» (2000) // Григорьев В. П. Велимир Хлебников в четырехмерном пространстве языка: избранные работы. 1958–2000-е годы. М. : Языки славянских культур, 2006.
- Данин Д. Улетавль // Дружба народов, 1979, № 2
- Данин Д. Золото Серебряного века // Известия, 18 мая 1999 года.
- Дуганов Р. В. Велимир Хлебников. Природа творчества. М., 1990.
- Киктев М. С. Хлебников и Вл. Соловьев // Материалы IV Хлебниковских чтений. Астрахань, 1992.
- Лейтес А. Хлебников — каким он был // Новый мир, 1973, № 1.
- Мандельштам О. Соч. в 2 т. М., 1990.
- Мигдал А. Б. Физика и философия // Вопросы философии, 1990, № 1.
- Нагибин Ю. О Хлебникове // Новый мир, 1983, № 5.
- Налимов В. В. На грани третьего тысячелетия: что осмыслили мы, приближаясь к XXI веку : философское эссе. М., 1994.
- Нильссон Н. О. Удивительная простота непонятности Хлебникова // Заумный футуризм, 1991.
- Перцова Н. Словарь неологизмов Велимира Хлебникова. Wien–Moskau, 1995.
- (Полемические заметки 1913 года) Хлебников В. Неизданные произведения. М., 1940.
- Роднянская И. Б. Слово и «музыка» в лирическом стихотворении // Слово и образ. М., 1964.
- Роднянская И. Б. Хлебников // Краткая литературная энциклопедия. Т. 8. М., 1975.
- Санкина С. Л. Легенда о небесном госте: В. В. Хлебников // Русская литература, 1998, № 10.
- Сарабьянов Д. В. Русский авангард перед лицом религиозно-философской мысли // Искусство авангарда: язык мирового общения : материалы международной конференции 10–11 декабря 1992 года. Уфа, 1993.
- Сарабьянов Д. В. Русская живопись. Пробуждение памяти. М., 1998.
- Тартаковский П. И. Русские поэты и Восток: Бунин. Хлебников. Есенин. Ташкент, 1986.
- Тартаковский П. И. Социально-эстетический опыт народов Востока и поэзия В. Хлебникова. 1900–1910-е годы. Ташкент, 1987.
- Урбан А. Философская утопия: поэтический мир В. Хлебникова // Вопросы литературы, 1979, № 3.
- Успенский Б. А. К поэтике Хлебникова: проблемы композиции // Сб. статей по вторичным моделирующим системам. Тарту, 1973.
- Успенский В. А. Требуется секундант // Неприкосновенный запас, 1999, № 1.
- Хлебников В. Зангези. Сценическая композиция А. Пономарева / под ред. и с предисл. Р. В. Дуганова. М., 1992.
- Хоружий С. С. Диптих безмолвия, М., 1991.
- Шрейдер Ю. А. Лекции по этике. М., 1994.
Еще на
эту тему
Как поэтическая речь влияет на формирование родного языка
На что опираться, чтобы сохранить язык у детей, если нет каждодневной русскоязычной среды
Поэтический театр 90-х годов ХХ века: игра слова
Ольга Северская ищет параллели с классиками
Реализация и развертывание речевых клише как прием поэтизации прозы у Владимира Набокова
Семантическое поле «остроты зрения» является наиболее активной зоной преобразований